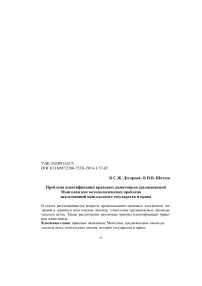Проблема идентификации правовых памятников средневековой Монголии как методологическая проблема исследований монгольского государства и права
Автор: Дугарова Сержена Жигмытовна, Шатуев Николай Викторович
Статья в выпуске: 1, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы происхождения правовых документов, названий и терминов монгольских законов, этимологии средневековых законодательных актов. Также рассмотрены различные приемы идентификации правовых памятников.
Правовые пямятники, монголия, средневековые законодательные акты, монгольские законы, история государства и права
Короткий адрес: https://sciup.org/148317357
IDR: 148317357 | УДК: 342(091)(517) | DOI: 10.18097/2306-753X-2014-1-57-65
Текст научной статьи Проблема идентификации правовых памятников средневековой Монголии как методологическая проблема исследований монгольского государства и права
В течение трех столетий историческая наука активно использует монгольские правовые памятники. Большой интерес к монгольским правовым памятникам проявляют иностранные ученые, труды которых в основном посвящены вопросам культуры и быта средневековой Монголии [1]. Вместе с тем в науке до сих пор нет единства взглядов на природу и происхождение правовых документов, названий и терминов монгольских законов, что затрудняет понимание содержания средневековых монгольских правовых актов. А также следует отметить, что в научной литературе нет единства в способах идентификации правовых памятников по их названию. В силу этого получило широкое распространение явление, когда один правовой источник имеет различные названия и, наоборот, разные правовые акты обозначены одним названием. В целом проблема заключается в том, что при идентификации правовых документов не выработаны единые критерии названий. Зачастую один источник права, именуемый двумя или более названиями, рассматривается как два разных акта. В других случаях разные по содержанию правовые документы рассматриваются как один исторический акт. Не менее сложной является проблема выявления нормативно-правовых актов из общей массы исторических документов. Нередко одни исследователи определяют какой-либо исторический документ как правовой акт, другие высказывают противоположное мнение [2, С. 41].
В результате такого разночтения отдельные правовые источники остаются в числе неизвестных. Вышеизложенное позволяет определить идентификацию и этимологию средневековых правовых источников как одну из актуальных проблем историко-правовой науки, требующую своего разрешения.
В настоящее время для идентификации правового памятника используются следующие приемы:
-
- Нормативно-правовой акт называется по имени исторической личности, которой приписывается авторство, например, «Мандуухайн цааз»26.
-
- Название правового акта отражает особенности исторического времени принятия акта, например, «Арван буяны цааз»27.
-
- Название акта связывается с конкретным историческим событием, например, «Великое уложение сорока и четырех»28.
-
- В ряде случаев источник права представлял собой сборник, в который вошли несколько нормативно-правовых актов29. Поскольку они были составлены в одно историческое время, их объединяли в один сборник.
-
- Закон получал свое название по названию населения данной местности. Таковым является «Халха Джирум»30.
-
- Нормативные акты, определявшие процесс судопроизводства, например, процессуальные акты XVIII в., получали название в соответствии с характерными внешними признаками рукописей, которыми пользовались судьи в своей деятельности, - «Улаан хацарт», «Хугархай нуурт»31.
Источники права отличаются от исторических или литературных памятников по цели создания, форме выражения и другим признакам. При исследовании источников права необходимо учитывать то обстоятельство, что первоначальные и подлинные тексты правовых актов значительно отличались от своих более поздних редакций, имели изменения в структуре, содержании и направленности воли законодателя. Так, их первые исследователи – известные путешественники, в своих путевых заметках, возможно подготовленных и изданных в разные периоды времени, одному и тому же правовому акту давали разные наименования. Например, «Их засаг» может именоваться как «Засах хууль», «Чингисийн засаг» [3, С. 61]. На наш взгляд, подобная практика давать различные собственные наименования историческим правовым документам была связана как с незрелостью правовой культуры, устойчивых правовых традиций в этой сфере, так и с отсутствием стремления постичь юридическую сущность исследуемых источников права.
В историко-правовых трудах современных монгольских исследователей совокупность источников монгольского права разных периодов именуют как «хуулиуд», «хууль цаазад», «дүрэм», «журам» [4, С. 307]. В связи с этим большой интерес, с одной стороны, и сложную задачу, с другой, представляет изучение данных правовых понятий. Термин «хууль» (gauli), по мнению известного монгольского ученого Б. Баярсайхана, имеет китайское происхождение и берет начало от китайского слова «falu» [2, С. 8].
Монгольские ученые С. Нарангэрэл, Н. Лүндэндорж считают, что этот термин заимствован монголами в начале XVIII в. у маньчжуров [5, С. 8]. Между тем слово «хууль» или «falu» в переводе с китайского языка определяется как «дүрэм тогтоол». А значение китайского слова «falu» переводится на монгольский язык «цохих, эрүүдэх» (пытать). Поэтому слово «хууль» можно соотносить с китайским «эрүүдэх дурэм» (правила пытки) [6, С. 861].
В некоторых источниках словосочетание «хууль дүрэм» используется как одно понятие. В толковом словаре Шагжи слово «дүрэм» определяется как порядковое расположение, регламент, установленный порядок, законоположение [7, С. 62]. В монгольской империи слово «дүрэм» использовалось для обозначения правил, устанавливавших размер выкупа для взыскания в отношении всякого лица, нарушившего закон.
Некоторые исследователи связывают время возникновения письменного законодательства с периодом «Их Монгол улс» (Великой Монгольской империи), тем самым, определяя это историческое время как начало возникновения традиции письменных источников монгольского права. Другие, ссылаясь на известный науке факт отсутствия подлинника письменного акта, отрицают существование такой традиции [2, С. 43]. Однако то обстоятельство, что один источник права в науке называют по-разному: «Их засаг», «Засах хууль», «Чингисийн засаг», «Яса», «Ëс», свидетельствует о неопределенности названия источника, а не об отсутствии его вообще.
Заслуживает внимания позиция ряда монгольских историков. Так, И. Дашням считает, что во времена Чингисхана закон определяли как «засаг» «власть» [8, С. 92], а традиция добавлять слово «Их» (большой, великий) получила распространение в более поздний период для определения власти. По его мнению, только в XVIII в. с развитием монгольского языка слово «засаг» получило новое содержание и стало пониматься как «закон», «государственное устройство», наряду со значением «власть». Схожей позиции придерживается Ч. Далай, отмечавший в своем труде, что основным законом Великой монгольской империи был «Засаг хууль» [9, С. 86.].
Нельзя не учитывать при рассмотрении этого вопроса информацию, которая представлена в трудах средневековых историков - Макризи, Мирховен-да, Вартана, Рашид-ад-дина, которые утверждали, что основным законом монгольского государства была Великая Яса. Обобщая точки зрения перечисленных ученых, можно сделать следующее заключение. Государство «Их Монгол улс» было знакомо с традицией письменного законодательства32. При этом дискуссионным является вопрос о названии данного правового акта.
Наиболее известными нормативно-правовыми актами, действовавшими в Монголии в период маньчжурского господства и отражающими законодательные традиции Китая, являются «Монгол цааз бичиг» (1795), «Зарлигаар тогто-осон гадаад монголын төрийг засах явдлын яамны хууль зүйлиин бичиг» (1815), «Дайчин улсын шүүх цаазын бичиг». В литературе все чаще встречается обобщенное название этих законов - «Хууль зүйлийн бичиг» [2, С. 48]. Историография их изучения подводит нас к выводу о том, что монгольскими учеными полностью не исследованы законодательные акты «Юаньского периода». В частности, нет переведенных на монгольский язык некоторых актов законодательства Юаньской империи. В силу этого обращение исследователей к китайским первоисточникам приводит к тому, что они переводят название первоисточника по своему усмотрению, что в значительной мере усложняет задачу изучения и классификации памятников права данного периода. Имеющиеся работы, посвященные истории права Юаньского государства, носят противоречивый характер, поскольку нет единой методики перевода китайских названий законодательных актов на монгольский язык. Например, в фундаментальном издании «История Монголии», редакции 1960 г., важнейший закон Юаньской империи носит название «Нэвтэрхий хууль цаазын бичиг». В 2006 г. издан коллективный труд (Ж. Ганболд, Т. Мөнхцэцэг, Д. Наран, А. Пунсаг) «Монголын Юань улс», в котором перечислены следующие законы: «Ярьж эмхэтгэсэн хуулиин бичиг» (Чжан-дин- тяо-гэ), «Чжи-юаний шинэ ху-уль» (Чжи-юан-синь- бичиг), «Да-дэ люя-лин» (Да-дэ-гийн зарлиг хууль) [10, С. 40-47].
К источникам монгольского права периода с конца XIV до начала XVII в. относятся: «Арван буяны цааз», «Мандуухайн цааз», «Халхын цааз эрхэмжийн бичиг», «Их цааз». В исторических летописях все названные законы упоминаются под этими же названиями. Только закон «Мандуухайн цааз» получил свое название позже, со ссылкой на исторические летописи того периода времени.
Монгольским ученым Х. Пэрлээ при раскопках в 1970 г. древнейшего субаргана33 были обнаружены берестяные рукописи с текстом 18 различных законов, принятых на съездах монгольских князей. В изданной ученым в 1973 г. книге «Редкий источник, относящийся к истории Монголии и Центральной Азии» этот вновь открытый памятник средневекового монгольского права получил название «Берестяные грамоты или 18 степных законов». Характеризуя в целом данный источник права, следует отметить, что в нем впервые в истории законотворческого процесса Монголии были указаны годы изданий. Примечательно, что впервые нормативно-правовые акты включали статьи религиозного характера и установления о статусе буддийской церкви. Начиная с XVII
-
в. устанавливается традиция, когда законы, принимаемые на собраниях монгольских князей, получали свое название также по году их издания.
К числу таких относится закон 1640 г. Хотя данный закон известен под названием «Их цааз» (Великое уложение), в научной литературе встречаются и другие названия этого акта. Например, П.С. Паллас, К.Ф. Голстунский, В.А. Рязановский в своих трудах называют «Их цааз» «Монголо-ойратским Великим уложением 1640 г.» [11; 3], в то время как ученые Внутренней Монголии Буянөлзий, Бу Хэ, обращаясь к анализу содержания закона, называют его «Их цаазын бичиг», «Ойрадын Их цааз», «Ойрад монголын цааз», «Ойрадын цааз», «Их цааз», «Дөчин дөрвөн хоерын их цааз» [12, С. 4]. Другой ученый из Внутренней Монголии Дорнотив, не аргументируя, называет данный закон «Ойрад цааз» (Ойратское уложение). В связи с этим Б. Баярсайхан, ссылаясь на исторический факт издания закона «Их цааз бичиг» в 1617 г. восточными и западными монголами, с участием хутагтай - представителей буддийской религии, считает название «Их цааз бичиг» неверным и замечает, что это название другого закона [2, С. 47]. Такой же позиции придерживается академик Ч. Далай, который утверждает, что закон первоначально назывался «Ойратско-монгольское уложение» («Ойрат-Монгол цааз»). Он полагает, что закон не мог называться «Халха-ойратским законом», поскольку после принятия уложения халхаские нойоны стали нарушать предписания уложения. А со времени вступления на престол Чахундоржи (1655-1699) нарушения соглашения со стороны халхасцев стали носить регулярный характер. В 1691 г. Халха вошла в состав маньчжурского государства. В силу этих обстоятельств ойратские нойоны после уничтожения по приказу Маньчжурского императора текста первой редакции закона под названием «Монголо-ойратское уложение» при издании новой редакции закона изменили название на «Ойратско-монгольское уложение» [9, С. 80-81].
Российский исследователь С.Д. Дылыков, беря за основу события, связанные с вхождением Халхи в состав Маньчжурского государства, выдвинул свою точку зрения о названии закона. Этот акт называется им как «Великое уложение» [13, С. 4].
Монгольский ученый Н. Сүхбаатар, соглашаясь с мнением С.Д. Дылыко-ва, обращает внимание на другое название данного памятника права - «Дөчин дөрвөн хоерын их цааз» («Великое уложение сорока и четырех»), которое, по его мнению, отражает особенности взаимоотношений монголов и ойратов [14, С. 149]. В современной монгольской научной литературе название закона 1640 г. определяется как «1640 оны Их цааз» (Великое уложение 1640 г.). При этом сохранено название первой редакции закона «Из цааз», а для разграничения уложения от других законодательных актов указывается год издания.
Законом, вобравшим в себя своеобразные законотворческие традиции монголов, является «Халха Джирум» 1709 г. При изучении этого важного в истории монголов, памятника права остаются неисследованными вопросы об источниках «Халха Джирум». Мы полагаем, что основным предшественником
«Халха Джирум» являлся закон «Гурван хошуны их цааз»34. В настоящее время известны три редакции этого закона, две из которых хранятся в Национальной государственной библиотеке Монголии.
Примечательно, что текст правового акта был переписан в 30-е годы XX в. По завершении этой работы редакции получили собственные названия: «Ба-руун хүрээний Халх журам» и «Шавь яамны Халх журам». При исследовании обстоятельств, повлиявших на название закона, выясняется, что закон не действовал на территории Баруун хүрээ. Так, С. Жалан-Аажав в работе «Халха-Джирум – памятник монгольского права» пишет, ссылаясь на свидетельства служащих канцелярии, что в монастыре «Амар баясгалан хийд» («Монастырь обретения счастья») хранилась рукопись под названием «Великое жизнеописание». По мнению ученого, рукопись могла быть пространной редакцией «Халха Джирум» [15, С. 56]. Интерес представляют утверждения ученых Ж. Болдбаатара и Д. Лундээжанцана о том, что после внесения в начале XVIII в. в текст уложения «Гурван хошуны их цааз» дополнений и изменений закон получил распространение на территории всей Халхи, а с 1709 г. стал называться «Халха Джирум» [16, С. 163]. Таким образом, выводы исследователей по вопросу истории создания этих законодательных актов в конце XVII - начале XVIII в. порождают массу вопросов. В частности, какой нормативный акт исследован: закон, хранящийся в настоящее время в государственной библиотеке Монголии, или редакция другого уложения?
В сборнике законов «Улаан хацарт», действовавшем в начале XIX в., встречаются ссылки на статьи «Халх журамын дүрэм», которые отличаются по содержанию от норм трех известных редакций «Халха Джирум». Поскольку исторической науке не известны другие источники под названием «Халха Джирум», то возникает вопрос: нормы какого закона встречаются в тексте «Улаан хацарт»? Можно ли сделать предположение, что действовал другой закон с названием «Халха Джирум»? Вместе с тем можно констатировать, что именно после 1770 г. все уложения, действовавшие в хошунах Халхи, были сведены в единый сборник законов.
Возможно, ответы на эти вопросы можно найти, исследуя содержание этих актов. Законодательные акты, принятые в начале XX в., - «Зарлигаар тог-тоосон Монгол Улсын хууль зүйлийн бичиг» (1918), «Жинхэнэ дагаж явах ху-уль, дүрэм» (1913) - были связаны с важным историческим событием в жизни монгольской государственности - освобождением Монголии от господства маньчжуров. Однако эти документы продолжали следовать принципам и традициям маньчжурского государства. Основным источником указанных актов явилось маньчжурское законодательство, переработанное применительно к новым историческим условиям [17. т. 51]. Например, закон «Жинхэнэ дагаж явах хууль, дүрэм» (1913) представляет собой переработанные тексты законов маньчжурского государства. О смешении законодательных традиций маньчжуров и монголов говорит и название данного закона. В законодательных актах средневековой Монголии ранее не встречается слово «дүрэм». Именно со времени установления господства маньчжуров слово «дүрэм» входит в употребление в сфере законотворчества.
Таким образом, изучение основных трудов монгольских ученых, посвященных исследованию памятников средневекового права Монголии, по вопросу этимологии названий позволяет сделать следующие выводы:
-
1. В настоящее время в Монголии существенно активизировались исследования по истории монгольского государства и права.
-
2. В сферу интересов большинства исследователей входят вопросы датировки и времени возникновения, названий, анализа структуры законодательных актов.
-
3. Проблема идентификации монгольских средневековых законодательных актов носит актуальный характер, но не до конца исследована. Для разрешения проблемы разночтений политико-правовых понятий в современной историографии исследователям предстоит выработать единые определения терминов и названий правовых актов.
-
4. Первостепенными являются задачи исследования вопросов происхождения правовых документов, без которых нельзя разрешить проблему разночтений политико-правовых понятий в современной монгольской историографии.
Список литературы Проблема идентификации правовых памятников средневековой Монголии как методологическая проблема исследований монгольского государства и права
- Флетчер Дж. Средневековые монголы: экологические и социальные перспективы; Мэй Т. Монголы и мировые религии в XIII в. // Сб. тр. Монгольская империя и кочевой мир.-Улан-Удэ, 2004.
- Монгол ба буриадын заншил, заншлын эрх з.й.-Улаанбаатар, 2008.
- Рязановский В.А. Монголчуудын хууль цаазын дурсгал бичг.дийн т.хэн тойм, их засаг хууль. Перевод Ч. Баатар, Н. Л.ндэндорж.-Улаанбаатар, 2006.
- История Монголии с древнейших времен. Тэрг.н боть.-Улаанбаатар, 1966.
- Нарангэрэл С. Л.ндэндорж Н. Эрх з.й судлалын удиртгал.-Улаанбаатар, 2002.