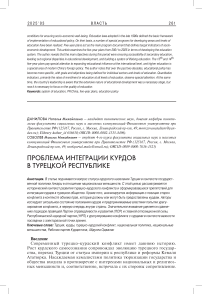Проблема интеграции курдов в Турецкой Республике
Автор: Данилова Н.М., Соболев М.М.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политика в фокусе
Статья в выпуске: 3 т.33, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье поднимается вопрос статуса курдского населения Турции в контексте государственной политики Анкары в отношении национальных меньшинств. С этой целью рассматривается исторический контекст развития турецко-курдского конфликта и сформировавшихся препятствий для интеграции курдов в турецкое общество. Кроме того, анализируется информация о позиции сторон конфликта в контексте объема прав, которые должны или могут быть предоставлены курдам. Авторы исследуют актуальное состояние положения курдов и предпринимаемые властями попытки урегулирования конфликта, в первую очередь внутри страны. Значительное внимание уделяется сравнению подходов правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и главной оппозиционной силы, Республиканской народной партии (НРП) к урегулированию конфликта с курдами в контексте важности последних с электоральной точки зрения.
Турция, курды, турецко-курдский конфликт, национальная политика, национальные меньшинства, рабочая партия курдистана, абдулла оджалан
Короткий адрес: https://sciup.org/170210367
IDR: 170210367 | DOI: 10.24412/2071-5358-2025-3-261-271
Текст научной статьи Проблема интеграции курдов в Турецкой Республике
Современный турецко-курдский конфликт имеет давнюю историю. Рост курдского самосознания сопровождал эволюцию турецкого государства, переход Турции от статуса империи к республике и реформы Кемаля Ататюрка. Насаждаемая кемалистами политика тюркизации государства и общества входила в противоречие с интересами национальных и религиозных меньшинств и, соответственно, встречала с их стороны сопротивление.
Предпринимаемая новой властью политика конструирования гражданской нации с ее отказом от деления общества по национальному признаку, наряду с закреплением турецкого языка как единственного государственного, на котором получают образование все граждане государства, способствовала дальнейшей радикализации курдов. В результате на рубеже 1970–1980-х гг. создается леворадикальная организация «Рабочая партия Курдистана» (РПК), которая возглавила борьбу с турецкой властью путем вооруженного сопротивления, в результате чего этнотерриториальный конфликт вышел на новый уровень, подчеркивая характер и степень неразрешенных противоречий между центральной властью и представителями крупнейшего национального меньшинства Турции.
Истоки турецко-курдского конфликта
Обострение курдского вопроса во многом обязано событиям, сопровождавшим завершение Первой мировой войны. Победа стран Антанты и их союзников создала возможность для пересмотра статуса центральных держав и их союзников, в результате чего был инициирован процесс отторжения от Османской империи целого ряда территорий. В результате в 1920 г. был подписан Севрский мирный договор, одним из ключевых положений которого было допущение создания независимого Курдистана при посредничестве как Англии с Францией, так и самой Турции. Под Курдистаном понимается обширная территория, охватывающая часть территорий Турции, Сирии, Ирака, Ирана и частично Армении, на которой проживают непосредственно курды. Однако отказ Великого национального собрания Турции ратифицировать данный договор стал одной из причин его последующего пересмотра. Уже в 1923 г. был заключен Лозаннский договор, который не только установил современные границы (за исключением Александреттского санджака – совр. Хатай) Турции, но и содержал принципиальные положения о национальных меньшинствах, чего добивались кемалисты. Так, согласно данному договору, только три этнические группы признавались национальными меньшинствами на территории Турции – греки, армяне и евреи, которые могли быть наделены правом получать образование на своем языке и иметь свои религиозные институты. Все же остальные группы не считались представителями национальных меньшинств и, соответственно, не наделялись данными правами, будучи отнесенными к категории «немусульман» [Dashyan, Kudelin 2020: 276]. Кроме того, новые турецкие власти смогли пролоббировать отказ Антанты от предоставления автономии армянскому и курдскому населению, что аннулировало соответствующие положения Севрского договора. Несмотря на то что новый договор не подразумевал особых прав для представителей меньшинств, он все же фиксировал, что отнесенные к категории «немусульман» группы наделяются гражданскими и политическими правами наравне с мусульманами. Однако курды, которые являлись преимущественно мусульманами, не подпадали под данную категорию населения, что позволило Турции де-факто ограничивать их в правах. В свою очередь, в пункте 38 и вовсе говорится, что турецкое правительство «обязуется обеспечить полную защиту жизни и свободы всех жителей вне зависимости от их национальности, языка, расы или религиозной принадлежности» [Dashyan, Kudelin 2020: 276-277]. На практике же данные положения не соблюдались турецкими властями, что привело как минимум к 15 известным попыткам восстания курдов против власти в 1920–1930-х гг.
Более того, с началом кампании Ататюрка по конструированию граждан- ской нации оформлялось и полноценное исключение курдов из общественной жизни как представителей не турецкого этноса. Конституция 1924 г. провозглашала османский (впоследствии – турецкий) язык единственным государственным и вводила непосредственное определение того, кто такой «турок». Согласно статье 88, турком считался любой житель страны, родившийся в Турции или за рубежом, но имеющий отца-турка. Понятие «турок» не имеет разделения по этносу, расе или религии и представляет собой политический термин1. Соответственно, власти Турции и курдов считали турками с той оговоркой, что им негласно был присвоен статус «горных турков» (dağ Türkleri), предложенный генералом Абдуллой Алпдоганом, известным за подавление восстания в Дерсиме (Тунджели) в 1937–1938 гг. Параллельно с этим власти активно культивировали такие практики, как переименование улиц, городов и отдельных регионов, чтобы придать им больше «турецкости», а также популяризация в обществе турецких имен и фамилий. С целью снижения протестной активности в регионах компактного проживания курдов и их ускоренной ассимиляции предпринимались попытки их переселения в западную часть страны – Стамбул, Анкару и другие крупные города. Курдский язык и культура всячески вытеснялись, а самим курдам старались привить идею об их «турецкости, о которой они забыли». Не меньшее давление оказывалось и в политической сфере: до 1935 г. представителям национальных меньшинств не разрешалось вступать в Республиканскую народную партию, что исключало их из участия в управлении государством, а в 1934 г. вышло специальное положение о ликвидации курдского племенного устройства, собственность которого, в свою очередь, переходила к государству [Bayir 2013: 137]. В свою очередь, нестабильность на юго-востоке Турции, где преимущественно проживает курдское население, привело к созданию специальных генеральных инспекций, в результате чего в Тунджели и других провинциях управляли не только гражданские, но и военные структуры, действовал особый режим вплоть до 1950-х гг., а в самой Тунджели действовал режим чрезвычайной ситуации до 1946 г. [Bayir 2013: 139-140].
Таким образом, курдское население Турции было лишено права на авто-номию/независимость, которые были зафиксированы в первых документах, подводивших итоги Первой мировой войны. Представители данного меньшинства также не имели доступа к получению образования на родном языке, а попытки сопротивления дискриминационным мерам Анкары приводили к жестокому подавлению протестов. Введение особого режима на курдских территориях смогло подавить проявление протестных настроений и на время стабилизировать ситуацию, однако оно не разрешило имевшиеся противоречия, в результате чего в 1960–1980-х гг. начинается новый этап турецко-курдского противостояния в стране.
Турецко-курдский конфликт в 1960–1980-х гг.
Несмотря на переход Турции к многопартийной системе и приход в 1950 г. к власти Демократической партии, положение курдов оставалось прежним. Тем не менее именно в 1960–1970-х гг. у курдов начинают активно появляться собственные политические партии и движения: Демократическая партия Курдистана, Социалистическая партия турецкого Курдистана, Национальные освободители Курдистана и др. Однако главным препят- ствием для всех данных организаций оставалось их нахождение на нелегальном положении, т.к., согласно Конституции, «создание партий, ставивших под сомнение единство турецкого народа, было запрещено», вследствие чего в дальнейшем они и вовсе были закрыты [Веденеев 2021: 28-29]. Более того, принятие новой Конституции в 1982 г. еще сильнее ужесточило дискурс в отношении национальных меньшинств. В преамбуле фиксируется «неприкосновенность турецкой истории», которую можно интерпретировать как запрет на ее пересмотр и, соответственно, невозможность предоставления особых прав, которыми в том числе курды ранее не обладали. В 42 статье говорится, что турецкий язык является единственным возможным языком, на котором в Турции может быть предоставлено образование. Положения данной статьи были позже дополнены специальным законом 2932 от 1983 г., «запрещающим использование в государственной жизни других языков, кроме турецкого», действие которого продолжалось вплоть до 1991 г. [Аватков, Павлова 2017: 69]. В данных условиях созданная в 1978 г. Абдуллой Оджаланом Рабочая партия Курдистана (РПК) не могла в сжатые сроки развернуть полноценное противостояние с властями Турции. Тем не менее организация сформулировала два сценария развития ситуации в будущем. Первый сценарий представлял «программу-минимум», согласно которой Курдистан остается частью Турции при условии гарантий со стороны Анкары политической и культурной автономии, признания курдского языка, этноса. Второй сценарий («программа-максимум»), в свою очередь, подразумевал образование полноценного курдского государства. В условиях нежелания Турции идти на серьезные уступки, а также заручения поддержкой иракских курдов и Сирии первоначально Оджалан выбрал «программу-максимум» как конечную цель борьбы с Анкарой. Качественно новой чертой РПК стала именно военно-политическая организация ее деятельности, включавшая наличие подготовленных боевых отрядов, начавших в 1984 г. вооруженное сопротивление (партизанскую войну) на юго-востоке Турции, в результате чего в 1987 г. власти были вынуждены ввести в регионе чрезвычайное положение, а сама РПК была признана террористической организацией [Победоносцева 2014: 12]. Методы деятельности организации включали и террористические атаки на гражданские объекты, в результате чего только с 1992 по 1994 г. на юго-востоке Турции были сожжены 192 школы [Слинкин 2006: 35]. Со временем РПК в силу различных обстоятельств отказалась от «программы-максимум», хотя еще долгое время методы сопротивления властям носили насильственный характер.
Важным этапом турецко-курдского конфликта стал период с 1991 по 1993 г., которые пришлись на президентство Тургута Озала, этнического курда. В этот период был снят запрет на курдский язык и заключено первое перемирие между РПК и Турцией. Несмотря на недолговечность перемирия, сам факт его заключения символизировал невозможность игнорирования курдской проблемы, которая переросла в полноценный вооруженный конфликт. Соответственно, требовались новые взгляд и подход к его разрешению, шанс для чего появился после прихода к власти в 2002 г. Партии справедливости и развития (ПСР).
Современный этап
После задержания в 1999 г. Абдуллы Оджалана и его пожизненного заключения в тюрьму на острове Имралы наступил новый этап в развитии турецкокурдского конфликта, т.к. стала очевидной невозможность дальнейшей кон- сервации курдского вопроса. В результате победы на парламентских выборах в 2002 г. Партии справедливости и развития Р. Эрдогана власти предпринимают попытки урегулирования вопроса, предоставляя курдам больше свобод. Курды получили право обучения на родном языке в частных школах наряду с его использованием на частных теле- и радиоканалах [Трофимцова 2016: 34]. Вследствие этого уже в 2004 г. сервис TRT 3 начал проводить утренние трансляции в т.ч. на курдском языке, а в 2009 г. был создан первый курдский государственный телеканал. Допускались послабления и в возможности называть детей не только турецкими именами, что ранее запрещалось специальным законом 1983 г., а после 2013 г. ряду курдских деревень были возвращены прежние названия [Aycan Özer 2023: 209]. Постепенно участие курдов в общественной жизни стало распространяться и на политику: в 2007 г. курды впервые получили представительство в Великом национальном собрании Турции от Партии демократического общества [Аватков, Павлова 2017: 71]. Более того, предложенная Эрдоганом в 2013 г. программа реформ предполагала государственное финансирование партий, которым удалось преодолеть барьер в 3% голосов против 7% ранее, что открывало бы курдам доступ к большему объему возможностей наряду с ведением пропаганды на родном языке1.
К числу достижений нынешней турецкой власти можно отнести и установление контакта с руководством РПК с целью принуждения ее к сложению оружия. Так, в 2013 г. Оджалан призвал своих сторонников отказаться от вооруженной борьбы, а боевиков РПК – и вовсе покинуть территорию Турции, что ранее было крайне тяжело представить на практике [Сергеев 2020: 441]. Вплоть до 2015 г., несмотря на свой ограниченный характер, так или иначе наблюдался прогресс в разрешении курдского вопроса, однако после серии инцидентов, включая авиаудары Турции по позициям курдов в Сирии, и он сошел на нет. Более того, у курдов имеется своя оценка послаблений, сделанных правящей партией до 2015 г. По их мнению, послабления для изучения родного языка также не стоит рассматривать как достижение, т.к. они не охватывали систему государственного образования, а имевшиеся элективные курсы были недостаточными для решения проблемы. Кроме того, создание крупной прокурдской Демократической партии народов в 2012 г. не столько являлось достижением в урегулировании курдской проблемы, сколько демонстрировало закрытость политической системы для курдов, которая могла быть преодолена исключительно путем создания политической платформы, альянса партий. На момент создания партии избирательный барьер составлял 10%, для преодоления которого курдская Партия мира и демократии и объединилась с другими организациями.
По прошествии 9 лет с момента новой волны эскалации турецко-курдского конфликта звучат новые инициативы по вопросу его урегулирования. Можно выделить три основные причины, говорящие в пользу необходимости решения курдской проблемы. Во-первых, власть стремится к обеспечению безопасности и стабильности после участившихся случаев терактов на улицах турецких городов. В ноябре 2022 г. на одной из главных улиц Стамбула Истикляль произошел теракт, ответственность за который была возложена на РПК. В октябре 2024 г. произошло вооруженное нападение на территорию TUSAŞ, крупного предприятия по производству оборонной и авиационной продукции. Во-вторых, играет роль экономический аспект. Одной из главных проблем Турции в области экономики, наряду с инфляцией, является социальное неравенство: так, по итогам 2023 г. тремя беднейшими провинциями Турции были признаны Шанлыурфа, Агры и Ван, суммарный ВВП на душу населения в которых составлял всего 73% показателя одной Анкары или 65% Коджаэли. В беднейшей провинции Ван подушевой ВВП в 2023 г. составил всего 3 000 долл. США, или 250 долл. ежемесячно против более чем 14 000 долл. США (1 200 долл. в месяц) в Коджаэли1. Вследствие этого у представителей власти существуют опасения относительно перспектив роста протестной активности в курдской среде, чьи города находятся среди аутсайдеров по уровню ВВП на душу населения. В-третьих, это демографический аспект. Несмотря на продолжающийся демографический рост, в Турции снижается число рожденных на тысячу людей. По сравнению с 1990 гг. этот показатель упал практически в 2 раза – с 26 до 14 рожденных на 1 000 чел.2 Однако численность курдского населения растет большими темпами, нежели турецкого, что и вызывает у властей опасение. Если в 2024 г. население Турции составило 87,5 млн чел., и доля курдов находилась в диапазоне от 20 до 22%, то к 2050 г., по имеющимся прогнозам, их численность может достигнуть 50 млн на фоне общего населения Турции в 100 млн чел.3 В то время как на двух турецких женщин в северных и северо-западных провинциях в среднем приходится 3 ребенка, то в курдских провинциях юго-востока этот показатель достигает 6–8 детей [Филиппова 2020: 102].
Позиция ПСР и НРП
Осенью–зимой 2024 г. в СМИ стало поступать все больше информации о предложениях представителей власти по разрешению имеющихся противоречий. В конце октября главный союзник Эрдогана и лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели обратился с предложением о потенциальном выступлении заключенного Оджалана в парламенте Турции с его призывом к РПК сложить оружие и распустить организацию. Подобному заявлению Бахчели предшествовал эпизод с приветствием представителя Демократической партии народов, что ранее было трудно представить в силу вражды между националистами из ПНД и их противниками из ДПН. Более того, 30 октября стало известно о публичной поддержке Бахчели Эрдоганом, который заявил о необходимости совместными усилиями строить «век Турции», призвав курдскую сторону к сотрудничеству, обращаясь к ним как к «курдским братьям и сестрам»4. Важные слова были высказаны также видным курдским политиком Ахмедом Тюрком: по его словам, единственным человеком, который в данный момент может решить курдский вопрос, является Эрдоган, но никак не кемалисты из НРП, т.к. только Эрдоган обладает возможностью «убедить глубинное государство». Подобные слова Тюрка не говорят о его поддержке Эрдогана, как отметил сам политик, он лишь конста- тирует реальность и текущий баланс сил в самой Турции1. Поддержал своих коллег и Ясин Актай, отвечающий за международные отношения и права человека в ПСР: как отметил политик, «единственный человек, к которому будут обращаться по вопросам, касающимся курдов, – это сам курдский народ», подчеркивая, что пришло время родства турков и курдов2. Несколько позже и представители самой прокурдской ДПН заявили, что решение курдского вопроса должно начинаться с прекращения изоляции лидера Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана.
Впрочем, с инициативой Бахчели и Эрдогана относительно Оджалана не согласен бывший спичрайтер президента Турции и экс-депутат от ПСР Айдын Унал. Как отметил эксперт, Оджалан обладает крайне ограниченными возможностями влиять на саму РПК и не стоит преувеличивать его влияние среди курдского населения и в самой организации. Унал также обращает внимание на потенциальные риски в случае принятия необдуманного решения о приглашении Оджалана на выступление в парламенте3. Тем не менее именно правящую партию и ее союзников можно отнести к тем силам, которые в первую очередь выступают за нормализацию отношений с курдами, не считая отдельных представителей самих курдских сил.
Свое в и дение решения курдского вопроса имеется и у Республиканской народной партии. В своей программе «22 вопроса, 22 ответа: Взгляд НРП на курдскую проблему. Рамки решения» кемалисты предлагают свой метод решения проблемы. Согласно данному документу, партия выступает с критикой политики ПСР в отношении курдов, возлагая на нее ответственность за невозможность реализации инициатив кемалистов. Кроме того, партия предлагает создать специальную Комиссию общественного согласия, которая бы включала все политические партии, представленные в Великом национальном собрании, с целью выработки ими консенсуса. Также предполагается создание Совета общего сознания, который бы включал силы, не имеющие представительства в парламенте, но которые могли бы через данный комитет доносить свою позицию до Комиссии общественного согласия. В свою очередь, обе эти структуры должны гарантировать решение курдской проблемы на основе демократического принципа. Поддерживая отказ от военного решения курдского вопроса, кемалисты, впрочем, выступают против переговоров в Имралы, которые проводит ПСР, обосновывая это как потенциальными угрозами, так и осуждением данной инициативы в обществе. При этом НРП, как и партия власти, выступает за разоружение РПК, предлагая в т.ч. создать специальные условия для возвращения ее участников к общественной жизни. При этом невозможность решения проблемы Партией справедливости и развития, согласно программе кемалистов, заключается в том, что первая не заинтересована в демократизации страны4.
Декларативная готовность власти к нормализации отношений с курдами в действительности сталкивается с оказываемым ею же давлением на последних. Так, только с июня по ноябрь 2024 г. были задержаны и сняты со своих должностей прокурдские мэры в Батмане, Хатфети, Хаккяри и Эсеньюрте, что вызвало крайнее недовольство местного населения1. Из этого можно сделать вывод, что решение курдской проблемы как для власти, так и для других ведущих политических сил Турции представляет скорее электоральный интерес, нежели действительное желание улучшить отношения с курдами. Данное обстоятельство можно проследить на примере того, за кого голосовало население Турецкого Курдистана в 2014–2024 гг. Если на президентских выборах 2014 и 2018 гг. население региона отдавало свои голоса преимущественно за Селахаттина Демирташа от прокурдской Демократической партии народов и самого Эрдогана в отдельных провинциях, то в 2023 г. в условиях отсутствия кандидата от ДПН курды предпочли отдать голоса за кемалистов, несмотря на все имевшиеся разногласия. В результате действующий президент Эрдоган смог одержать победу только во втором туре, при этом так и не получив голоса жителей Диярбакыра, Мардина, Батмана, Агры, Вана и других провинций. При этом в ходе муниципальных выборов 2024 г. ДПН одержала победу сразу в 10 провинциях на юго-востоке Турции2. В условиях участившихся случаев полемики между представителями ПСР и НРП относительно возможности проведения досрочных президентских выборов обе стороны пытаются заработать очки, которые можно будет преобразовать в голоса курдских избирателей. Так, в ходе обсуждения бюджета в декабре 2024 г. депутату Великого национального собрания Айшегюль Доган было разрешено обратиться на курдском языке к вице-президенту Джевдете Йылмазу, курду по национальности, а уже в январе 2025 г. власти Турции не стали препятствовать делегации от ДПН в посещении Абдуллы Оджалана и проведении переговоров с Селахаттином Демирташем.
Однако кульминацией современного этапа решения курдского вопроса в Турции стал XII съезд Рабочей партии Курдистана, проходивший 5–7 мая в иракских горах Кандиль. Главным его итогом стало решение партии о прекращении вооруженной борьбы и самороспуске, к чему ранее призывал своих сторонников Оджалан. Таким образом, как минимум на уровне заявлений самих членов РПК организация прекращает свое более чем полувековое сопротивление, готовится искать другие пути решения курдской проблемы. Впрочем, не стоит возлагать серьезные надежды на окончательное урегулирование конфликта между РПК и Турцией. По словам члена исполнительного комитета организации Дурана Калкана, «реализация положений съезда будет длиться месяцами, а значит, поставленные задачи будут выполняться в течение долгого времени». Кроме того, политик подчеркнул, что происходящее не является концом истории РПК, а приближает ее историческую трансформацию, время вступления на новый этап, который будет призван найти разрешение многолетнего конфликта1. Кроме того, далеко не все ведущие борьбу против Турции курды готовы поддержать решение съезда. Так, часть отрядов народной самообороны (YPG), базирующихся в Сирии, через лидера Мазлума Абди заявили, что «призыв Оджалана сложить оружие сирийских курдов не касается»2. Данная группировка добивается автономного статуса в составе Сирии, с чем категорически не согласны как новые сирийские власти, так и Турция. Другим сдерживающим фактором может стать позиция РПК и Анкары по заключению в тюрьме Имралы Оджалана: несмотря на самороспуск организации, ее члены по-прежнему выступают за освобождение своего лидера, выдвигая это в качестве одного из условий дальнейшего ведения переговоров с турецкими властями, и ожидают от них ответного шага. В данных условиях с важным заявлением выступил президент Эрдоган, который, помимо констатации важности принятого РПК решения, подчеркнул, что власти рассматривают его как решение, «охватывающее все ответвления организации». Другими словами, до тех пор, пока с похожей инициативой не выступят другие военизированные группировки и не начнут реализовывать ее на практике, изменений по данному вопросу ждать не стоит.
В свою очередь, ряд экспертов, несмотря на решение РПК о самороспу-ске, выражают опасения относительно будущего урегулирования конфликта в связи со смертью Сырры Сюрейя Ондера, представителя прокурдской ДПН и Народной партии равенства и демократии, игравшего важную посредническую роль в разрешении курдской проблемы. Тем не менее последствия решения РПК о самороспуске, безусловно, отразятся на внутриполитической ситуации в самой Турции. Все более актуальными станут вопросы о потенциальной амнистии курдских политиков, о которых говорилось ранее, о том, будет ли произведена интеграция бывших членов организации в политическую жизнь Турции и состоится ли на практике разоружение РПК, ее переход в статус новой, легальной политической силы.
Заключение. Турецко-курдский конфликт длится уже более столетия; в ходе конфликта периоды эскалации сменяются его временной заморозкой. На протяжении большей части своей истории Новейшего времени Турция и ее власти отрицали сам факт существования курдов как этнической группы, всячески ограничивая их в правах, что проявлялось в запрете на курдский язык, лишении права обучаться на нем, иметь свое представительство. Подобная политика Анкары способствовала дальнейшей радикализации курдов, что впоследствии привело к их вооруженному сопротивлению властям Турции посредством деятельности Рабочей партии Курдистана. В свою очередь, предпринятые после прихода к власти Партии справедливости и развития усилия по нормализации отношений с курдским населением оказались недостаточными для его полноценной и полноправной включенности в жизнь государства и общества. Как правило, данные инициативы были продиктованы необходимостью улучшить отношения с другими государствами и заручиться поддержкой курдов в ходе предвыборных кампаний. На курдских политиков по-прежнему оказывается серьезное давление под предлогом их связи с тер рористической РПК, в результате чего снимают их их снимают с занимаемых должностей, что, в свою очередь, способствует росту протестной активности на юго-востоке Турции. Несмотря на принятое РПК решение о прекращении вооруженной борьбы и самороспуске, вопрос урегулирования турецко-курдского конфликта по-прежнему остается открытым и будет ждать предложений турецких властей.