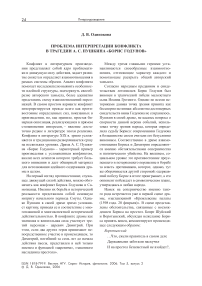Проблема интерпретации конфликта в трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов»
Автор: Одинокова Д.В.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.5, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14736747
IDR: 14736747
Текст статьи Проблема интерпретации конфликта в трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов»
Конфликт в литературном произведении представляет собой ядро проблематики и движущую силу действия, задает развитие сюжета и определяет взаимоотношения в рамках системы образов. Анализ конфликта помогает исследователю выявить особенности идейной структуры, подчеркнуть своеобразие авторского замысла, более адекватно представить схему взаимоотношений персонажей. В самом простом варианте конфликт интерпретируется прежде всего как противостояние определенных сил, показанных в произведении, но, как правило, простая бинарная оппозиция, реализующаяся в прямом столкновении интересов, – явление достаточно редкое в литературе эпохи реализма. Конфликт в литературе XIX в. зримо усложняется и традиционно разворачивается сразу на нескольких уровнях. Драма А. С. Пушкина «Борис Годунов» – характерный пример произведения с усложненным конфликтом, анализ всех аспектов которого требует большого внимания и дает обширный материал для истолкования идейного содержания драмы в целом.
На первый взгляд противостояние, служащее движущей силой действия, можно обозначить как конфликт Бориса Годунова и Самозванца. Именно их борьба в исторической реальности представляла собой основную интригу начального периода Смуты. Однако Пушкин в своей драме зримо усложняет картину, приводя ее в соответствие с многоплановой и многоаспектной исторической действительностью. В конфликте драмы как значимая и влиятельная сила участвует третий персонаж – царевич Димитрий. При этом, если два других героя принимают непосредственное участие в происходящем, то Димитрий, погибший за семь лет до начала действия пьесы, представлен в ней только именем и функцией «царевича», «законного наследника престола».
Между тремя главными героями устанавливаются своеобразные взаимоотношения, оттеняющие характер каждого и помогающие раскрыть общий авторский замысел.
Cогласно народным преданиям и свидетельствам летописцев Борис Годунов был виновен в трагической гибели малолетнего сына Иоанна Грозного. Однако не всеми историками данная точка зрения принята как бесспорно истинная: абсолютно достоверных свидетельств вины Годунова не сохранилось. Пушкин в своей драме, не касаясь вопроса о спорности данной версии событий, использовал точку зрения народа, которая определила судьбу Бориса: современники Годунова в большинстве своем считали его безусловно виновным. Соответственно в драме взаимоотношения Бориса и Димитрия определяются именно обстоятельствами соперничества и политического убийства. На внешнем, социальном уровне это противостояние преуспевшего и потерпевшего поражение в борьбе за власть противников, которое, однако, тут же оборачивается другой стороной: одержавший победу Борис в итоге проигрывает, а его оппонент побеждает в символическом плане, утверждаясь в любви народа.
Намек на соперничество именно такого рода встречается уже в первой сцене драмы, озаглавленной «Кремлевские палаты (1598 года. 20 февраля)». В сцене представлены обстоятельства, связанные с восхождением Бориса на престол. Бояре Шуйский и Воротынский, обсуждая нежелание Бориса принять венец, комментируют происходящее следующим образом:
Воротынский
…Что, ежели правитель в самом деле Державными заботами наскучил
И на престол безвластный не взойдет?..
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2006. Том 5, выпуск 2 © Д. В. Одинокова, 2006
Шуйский
Скажу, что понапрасну
Лилася кровь царевича-младенца;
Что если так, Димитрий мог бы жить 1.
Пушкин хочет показать, что людям со стороны отчетливо видна взаимосвязь между воцарением Годунова и необходимостью устранения Димитрия как конкурента и, наоборот, отсутствие необходимости в насилии при отказе Бориса от власти.
В сцене пятой «Ночь. Келья в Чудовом монастыре (1603 года)» монах Пимен говорит о покойном царевиче: «…он был бы твой ровесник / И царствовал; но Бог судил иное» (С. 204). Димитрий характеризуется как прямой наследник престола, который должен был царствовать вслед за старшим братом Феодором, а Борис Годунов, как подразумевается, выступает в роли человека, изменившего судьбу царства и подменившего собой законного царя. При этом с самого начала Борис внешне преуспевает: в 1598 г. он добивается престола и все в один голос твердят о любви к нему народа. В сцене первой Воротынский констатирует:
А он умел и страхом и любовью
И славою народ очаровать (С. 191).
В сцене второй («Красная площадь») показано народное моление в адрес Бориса: народ уговаривает правителя принять царский венец. В то же время уже в следующей, третьей сцене показаны обе стороны медали – народ на Девичьем поле кричит: «Ах, смилуйся, отец наш! властвуй нами!» – но при этом некоторые, чтобы заплакать, прибегают ко всевозможным ухищрениям, так как искренних чувств не испытывают:
Один
…Заплачем, брат, и мы.
Другой
Я силюсь, брат,
Да не могу.
Первый
Я также. Нет ли луку?
Потрем глаза.
Второй
Нет, я слюней помажу (С. 195–196).
С течением времени настроение народа меняется еще больше, и на шестой год царствования Годунова картина совершенно иная: внешняя, «наносная» любовь окончательно исчезла, и Борис уже не питает никаких иллюзий относительно народной привязанности. В сцене седьмой «Царские палаты» Борис в своем монологе признает, что потерпел крах в попытках снискать народную любовь:
…Я думал свой народ
В довольствии, во славе успокоить, Щедротами любовь его снискать – Но отложил пустое попеченье:
Живая власть для черни ненавистна.
Они любить умеют только мертвых (С. 208).
Упоминание любви к мертвым может быть отнесено в том числе и к царевичу, который постепенно вытесняет Годунова как объект любви из народных помыслов. В четвертой сцене монах Пимен как летописец, выражающий прежде всего точку зрения народа в целом, с пиететом отзывается о мертвых царях – предшественниках Годунова – Иоанне и Феодоре, не забывая помянуть и Димитрия, причем со ссылкой на насильственный характер его смерти от рук Бориса:
Прогневали мы Бога, согрешили:
Владыкою себе цареубийцу
Мы нарекли (С. 203).
Далее примеры народной ненависти к Годунову только множатся. В доме Шуйского (сцена девятая «Москва. Дом Шуйского») ведутся крамольные разговоры: Афанасий Пушкин жалуется на многочисленные притеснения со стороны властей во время царствования Бориса («Ну, слыхано ль хоть при царе Иване / Такое зло? А легче ли народу?» (С. 223)), и Шуйский подтверждает, что «быть грозе великой», т. е. намекает на зреющее народное возмущение. В сцене семнадцатой «Площадь перед собором в Москве» еще один выразитель народных мыслей Юродивый прямо говорит Борису в лицо, что он «зарезал… маленького царевича». В сцене двадцатой «Москва, царские палаты», где представлена смерть Годунова, Борис вновь вспоминает о народной неприязни примерно в тех же выражениях, что и в сцене седьмой:
Нет, милости не чувствует народ:
Твори добро – не скажет он спасибо;
Грабь и казни – тебе не будет хуже
(С. 269).
После смерти Бориса о нем не говорится ни одного доброго слова: его именуют «убийцей» и «злодеем» (см. последние две сцены драмы 2).
Такой исход противостояния предопределен существовавшим на Руси особым пониманием роли монарха. Феномен восприятия царской власти, существовавший в России, подробно рассмотрен во многих исследовательских работах [Вальденберг, 1916; Дьяконов, 1889; Успенский, 1996. С. 142–166, 204–311; 1998]. Суть этого феномена заключается в том, что в России чрезвычайно большое значение придавалось именно законности воцарения монарха, причем законность не могла быть приобретена внешними способами. Права на престол даровались исключительно принадлежностью к царствующей династии. Никакие заслуги правителя не могли оправдать в глазах народа узурпацию власти, и, наоборот, любые злодейства истинного царя принимались как должное, как его законное право. Примером именно такого подхода в пьесе оказывается противопоставление членов династии Рюриковичей, о которых сохраняется самая светлая память, и Бориса Годунова, чье происхождение его подводит. При этом Годунов делает для страны много полезного, а о Грозном царе вспоминают, как он своим жезлом подгребал угли под костры с казнимыми боярами. Но это не мешает называть Грозного «могущим Иоанном» и с пиететом относиться к его царствованию. Не случайно, принимая венец, Годунов в сцене четвертой пытается подчеркнуть именно свое наследственное право, преемственность власти:
Наследую могущим Иоаннам –
Наследую и ангелу-царю!.. (С. 197)
Дополнительную остроту столкновению двух противников, рассматриваемому как социальное явление, придает нравственная оценка их деятельности со стороны народа. Поступки Бориса рассматриваются как глубоко безнравственные, что вызывает неприязнь народа к нему, а Димитрий воспринимается как безгрешный ангел, прежде всего в силу своего малого возраста и насильственного характера мученической смерти. Подчеркивается, что Борис – «грешник», «грешный царь», «цареубийца», в облике же Димитрия акцентируется невинность и беззащитность: «несчастный младенец», «убитое дитя». В сцене десятой «Царские палаты» Шуйский рассказывает Годунову о нетленности останков Димитрия:
…Детский лик царевича был ясен
И свеж и тих, как будто усыпленный;
Глубокая не запекалась язва,
Черты ж лица совсем не изменились
(С. 231).
В сцене пятнадцатой «Царская дума» патриарх сообщает о чудесах при гробе Димитрия и о явленных некоему пастуху словах, сказанных детским голосом:
«Царевич я Димитрий. Царь небесный Приял меня в лик ангелов своих,
И я теперь великий чудотворец!» (С. 252)
Чисто социальный конфликт оттенен конфликтом нравственного характера – противостоянием грешного убийцы и безгрешной жертвы, столкновением греха и праведности. В плане психологии данный конфликт определяет преобладающий мотив вины, служащий движущей силой действия в целом и формирующий характер Годунова, а также задает внутреннее противоречие, показанное в пьесе, – столкновение соображений политической выгоды и совести, взывающей к милосердию. Например, в своем знаменитом монологе в сцене «Царские палаты» Борис демонстрирует именно это внутреннее противоречие – на фоне достигнутого политического успеха он признается, что дух его далек от гармонии:
Ни власть, ни жизнь меня не веселят:
Предчувствую небесный гром и горе
(С. 208).
Конфликт между Годуновым и покойным царевичем, разворачивающийся одновременно в социальном и нравственном плане, на внешнем и внутреннем уровнях, в драме не единственный – он имеет параллельное измерение за счет того, что один из персонажей, вовлеченных в противостояние, в пьесе имеет «дублера». Личность царевича Димитрия в драме, как и в истории, была парадоксальным образом продублирована, причем в истории это произошло не однажды: количество самозванцев, присваивавших себе имя царевича, в период Смуты исчислялось даже не единицами, одновременно в разных концах страны появлялось до трех-четырех претендентов на московский престол (см., например, [Платонов, 1923; Скрынников, 1990]).
В драме изображен единственный двойник Димитрия-царевича – Лжедмитрий, он же Григорий Отрепьев, один из самых известных самозванцев в русской истории. Отношения ложного Димитрия с Димитрием истинным строятся по принципу подмены: покойник отдает живому свое имя, Отрепьев его принимает, одновременно лишаясь возможности вернуться к своей привычной роли. Димитрий, таким образом, жертвует своим именем, но получает возможность преуспеть в «физическом облике» другого человека. Отрепьев также лишается имени и приобретает шанс на успех в чужом облике 3. Действия каждого персонажа при обмене сходны – отказ от имени в обмен на успех, только Отрепьев сам выбирает такой поворот своей судьбы, а Димитрию выбирать не приходится.
Пушкин в своей драме преднамеренно акцентирует внимание, с одной стороны, на власти имени истинного царевича, а с другой – на процессе постепенной утраты Отрепьевым самобытного облика и полного перевоплощения его в «царевича» 4. Имя Димитрия упоминается как объяснение успеха самозванца, который не обусловлен ни военным превосходством, ни продуманной стратегией захвата власти. О силе имени говорит Шуйский в сцене десятой «Царские палаты», объявляя Годунову о появлении в Польше Самозванца:
К нему толпу безумцев привлечет
Димитрия воскреснувшее имя.
Далее в той же сцене сам Годунов повторяет данную формулировку:
Кто на меня? Пустое имя, тень…
В сцене пятнадцатой патриарх разоблачает Отрепьева:
Он именем царевича, как ризой Украденной, бесстыдно облачился…
Таким образом, мы видим, что в данном случае Пушкин отразил в несколько ином свете уже упоминавшуюся концепцию истинного и неистинного царя: даже имя истинного монарха на Руси традиционно имело сакральный оттенок и в представлении народа наделялось особыми возможностями.
Итак, на внешнем уровне столкновение Годунова и Лжедмитрия полностью повторяет линию Годунов – царевич: это борьба за престол политических соперников, один из которых терпит поражение, а другой одерживает победу, это противостояние истинного царя и неистинного. Различие по сравнению с предыдущей парой (Годунов – Димитрий) заключается в том, что здесь Самозванец изначально преуспевает, а у Годунова нет никаких шансов, и он постепенно, но верно сдает свои позиции. При зеркальном воспроизведении основного конфликта Борис из положения победителя переместился на позицию побежденного.
Однако за внешним сходством Димитрия и Лжедимитрия скрывается внутренняя несхожесть. Более того, в результате Самозванец оказывается двойником не царевича, а Бориса Годунова. Взаимоотношения Бориса и Самозванца изначально основаны на соперничестве между Борисом и сыном Иоанна Грозного. Заняв место царевича, Отрепьев автоматически стал соперником Бориса. Но внешнее противостояние Годунова и Отрепьева на самом деле подразумевает глубинное сходство, задуманное автором как многозначительная параллель на характерологическом и сюжетном уровнях. Исследователями неоднократно отмечалось [Турбин, 1968], что оба персонажа одинаково стремятся к власти, одинаково приходят к ней – через преступление (Борис виновен в устранении Димитрия, Самозванец – в устранении сына Годунова Феодора), и обоих после первоначального успеха и народной любви ждет крушение и трагическая гибель.
Подводя итог, можно констатировать, что при рассмотрении конфликта в драме «Борис Годунов» выявляются не два, как обычно, а три задействованных в конфликте персонажа, два из которых находятся в своеобразных отношениях «дублирования» (Самозванец и Димитрий). При этом отношения между центральным героем, именем которого названа драма, и двумя другими участниками конфликта выглядят идентичными – это отношения соперничества, борьбы за власть. Однако по линии Борис – Димитрий мы наблюдаем успешный захват власти Годуновым при постепенно утверждающемся моральном превосходстве царевича, а по линии Борис – Самозванец – захват власти Самозванцем и соответственно проигрыш Бориса. Можно сказать, что Самозванец берет своеобразный реванш за поражение своего двойника – истинного царевича. Ситуация осложняется тем обстоятельством, что Самозванец в какой-то момент оборачивается двойником не Димитрия-царевича, а Бориса Годунова, повторяя его характер и судьбу. Такое построение конфликта, в котором пересекаются категории морально-этические и социально-политические и отношения героев строятся по необычным схемам, отражает сложность идейного замысла произведения, задуманного как воссоздание исторической реальности эпохи Смуты во всей ее полноте.