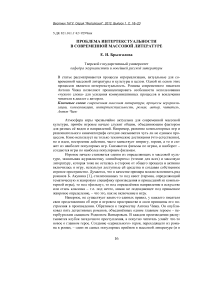Проблема интертекстуальности в современной массовой литературе
Автор: Брызгалова Елена Николаевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются процессы игрореализации, актуальные для современной массовой литературы и культуры в целом. Одной из основ этих процессов является интертекстуальность. Романы современного писателя Антона Чижа позволяют проанализировать особенности использования «чужого слова» для усиления коммуникативных процессов и вовлечения читателя в диалог с автором.
Современная массовая литература, процессы игрореализации, коммуникация, интертекстуальность, роман, автор, читатель, антон чиж
Короткий адрес: https://sciup.org/146120915
IDR: 146120915 | УДК: 821.161.1’42+929Чиж
Текст научной статьи Проблема интертекстуальности в современной массовой литературе
Атмосфера игры чрезвычайно актуальна для современной массовой культуры, причём игровое начало служит общим, объединяющим фактором для разных её видов и направлений. Например, развитие компьютерных игр и развлекательного кинематографа сегодня оказывается чуть ли не единым процессом. Кино использует не только технические достижения (что естественно), но и идеи, построение действия, часто заимствует интригу, героев, а то и сюжет из наиболее популярных игр. Снимаются фильмы по играм, и наоборот – создаются игры по наиболее популярным фильмам.
Игровое начало становится одним из определяющих в массовой культуре, захватывая журналистику «omnibuspress» (чтение для всех) и массовую литературу, которая тоже не осталась в стороне от общего процесса и активно включилась в игру, используя доступные ей средства и создавая собственное игровое пространство. Думается, что в качестве примера можно вспомнить ряд романов Б. Акунина [1], стилизованных то под квест (термин, определяющий тематическую и жанровую специфику произведения и пришедший из компьютерной игры), то под «фильму», то под определённое направление в искусстве или стиль классика – т.е. под нечто, никак не подпадающее под привычное жанровое определение, – что это, как не включение в игру.
Наверное, не существует каких-то единых правил, у каждого писателя свои представления об игре и игровом пространстве и свои принципы его построения в произведении. Обратимся к творчеству Антона Чижа. Он опубликовал пять детективных романов, объединённых одним главным героем – петербургским сыщиком Родионом Ванзаровым. В каждом произведении распутывается клубок загадочного преступления, а попутно читатель узнаёт что-то новое о главном герое. Создание «сериального» героя, переходящего из романа в роман, – один из самых популярных приёмов в массовой литературе (и в детективистике в том числе), и примеров тому множество, начиная от классических западноевропейских образцов (Конан Дойл, Агата Кристи и другие) и кончая многочисленными романами, чуть ли не каждый день появляющимися на книжном рынке. К чести господина Чижа заметим, что он придумал собственный ход, способствовавший тому, что его произведения не только не затерялись в море себе подобных, но и выделились на общем фоне открытой ироничностью, сложными взаимоотношениями, установившимися между автором и читателем, и откровенной ориентацией на игру.
Действие в романах А. Чижа происходит в дореволюционной России в начале ХХ в. С одной стороны, автор старательно воссоздаёт атмосферу жизни той эпохи и вводит в действие множество реалий. Так, в романе «Смерть мужьям» читатель вместе с обитателями Невского проспекта наблюдает за «наимоднейшим чудом техники, последним писком городской моды» [16, с. 10] – двухколёсным велосипедом, который играет важную роль в развитии сюжета. В основе романа «Аромат крови» [15] лежит идея проведения в Петербурге первого конкурса красоты (известно, что в европейских странах подобные мероприятия проводились, начиная с конца ХIХ в.). В романе «Смерть мужьям» [16] подробно описываются модные тенденции в одежде и особенности дамского костюма тех лет.
С другой стороны, изображение подчёркнуто условно: в тексте романов есть множество авторских замечаний, упоминаний о реалиях, указаний на предметы, которые никак не могут относиться к исторической эпохе 1900-х гг. Например, описывая реакцию Родиона Ванзарова на женскую красоту, автор замечает: «Красота женщины действовала на Родиона как столбняк. Словно помещали его в микроволновую печь (подумаешь – не было, а ощущение было) и прожаривали изнутри» [15, с. 31]. «Лидия Карловна была прирождённым оратором. Ей бы на баррикады или на трибуну Государственной Думы (которой ещё и в помине не было)…» [15, с. 287]. «Афанасий деловито кивнул, словно прокрутил в голове магнитную плёнку (подумаешь, про неё ещё никто не знал, а в голове филёра она была, не приставайте), нашёл нужное место и доложил…» [17, с. 215]. Через несколько строчек: «Наверняка мозг филёра, автоматически включив запись (отстаньте же!), вдруг уловил нечто важное» [17, с. 215–216]. Авторские замечания в скобках, в которых он отстаивает право на подобный взгляд, соединяющий разные эпохи, и являются моментом включения в игру. Пространственно-временные отношения, установленные в повествовании, в этот момент резко нарушаются, и читатель оказывается в положении то ли игрока, принимающего новые правила, то ли обманутого простака.
В романе «Аромат крови» можно увидеть известный сегодня каждому школьнику значок @, который полиция обнаружила в виде татуировки на теле жертвы. Границы создаваемой реальности размываются, и за счёт этого произведение кажется более «многослойным» и уже не так крепко привязанным к канонам жанра, в данном случае, детективного. Не случайно, сам автор не воспринимает свои романы как исторические детективы. А отсюда вполне допустима мысль, что он противопоставляет свою модель организации пространства классической модели исторического детектива, представленной, например, у Б. Акунина. В этом случае игра оправдана тем, что автор вступает в сложные диалогические отношения не только с читателем, которому предложено участвовать в ней, но и с целым пластом литературы, рассчитанной на этого читателя.
Рассуждения об игровом начале в массовой литературе невозможны без разговора об интертекстуальности – одном из центральных процессов в современной культуре. Понятие интертекстуальности включает в себя «самые разнообразные типы практик и форм: аллюзии, плагиат, перезапись, пародия, стилизация, коллаж» [13, с. 45]. Существование ассоциативных связей «объясняется самой природой текста как факта культуры и как способа освоения, познания и преобразования действительности. <...> В связи с этим в процессе порождения текста автор программирует разного рода ассоциации: образнометафорические, культурологическое, социальные и пр.» [2, с. 297].
«Чужое слово» используется в массовом чтении (будь то художественная литература или бульварные газеты) чрезвычайно широко. Интертекстуальность осуществляется через использование т.н. прецедентных текстов – «значимых для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, хорошо известных окружению данной личности, включая и предшественников и современников» [6, с. 216–217]. В качестве таковых учёные рассматривают кинофильмы, телевизионные программы, рекламу, песни, анекдоты, литературные произведения, живописные полотна, современный фольклор, скульптуру, памятники архитектуры, музыкальные произведения и т.п. [7]. В романах А. Чижа в качестве прецедентных текстов выступают цитаты из популярных песен, которые, что называется, на слуху у публики. Например, об убитой девушке, претендентке на участие в конкурсе красоты, герой говорит: «Убили потому, что нельзя быть красивой такой» (здесь и далее выделено мной. – Е. Б. ) [15, с. 93], – что почти дословно повторяет фразу из песни, какое-то время назад обладавшей огромной известностью. Популярные песни советской эпохи тоже представлены («Тут, как в сказке, скрипнула дверь, и приёмное отделение пересёк высокий цилиндр, из-под которого торчали тараканьи усы и угадывался их владелец» [15, с. 234]. Встречаем фразу из мультфильма: «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает опрометчиво» [15, с. 251]. В том же романе обыгрывается слоган очень известной рекламы напитка: «“Праздник к нам приходит!” – читалось по физиономии дворника, чистящего подъезд от снега. “Праздник к нам приходит!” – подмигивала кухарка корзине с провизией. “Праздник к нам приходит!” – вторили перины, взбиваемые горничной» [15, с. 175]. Несколько позже та же фраза видоизменяется, завершая ироническое развитие темы радости: «“Праздник к нам пришёл и попался!” – пропела золотая цепочка на купеческом пузе» [15, с. 179].
В тексте романа можно встретить самые разные фразы, ассоциирующиеся с телевидением, например, названия телевизионных сериалов, скопированных с американских: «закон и порядок» [15, с. 192], «…ваша прекрасная няня слишком много читала пьес» [17, с. 395]. Вот фраза, аллюзивно отсылающая читателя к телевизионному фильму «Место встречи изменить нельзя»: «Да вам, господин Ванзаров, на эстраде выступать… Фокусы почище моих показываете» [15, с. 431]. Подобное обращение вполне оправданно: сегодня телевидение – одна из основ, без которой жизнь человека кажется неполноценной. Поэтому обращение к зрительскому опыту включает литературное произведение в более широкий круг реалий, окружающих человека в повседневной жизни. Можно сказать, что, используя подобный материал, автор «делает красиво», по выражению В. В. Маяковского [11, с. 310], читателю. Но в этом приёме, наверное, есть и более глубокий смысл: происходящее в романе становится почти что фактом реальности, т.к. перекликается с другими сферами жизни читателя. А сам он из «получателя» продукта творчества превращается в сотворца.
Ассоциативный материал, используемый А. Чижом, очень разнообразен, но всегда служит цели активизации коммуникативных процессов, возникающих в связке «автор – читатель». В кругу аллюзивного соотнесения оказывается тот опыт, который читатель получает в повседневной жизни. В романной реальности вдруг проступают приметы жизни обычного человека начала ХХI в., например, плохое качество медицинских услуг – одна из важнейших проблем нашего времени. Читатель наверняка отреагирует на фразу «лечили здесь плохо, но бесплатно, что иногда спасало жизнь» [16, с. 21]. Другая «массовая» проблема, касающаяся сегодня всех и каждого,– дорожные пробки. И это переносится в начало ХХ в.: «Редкие прохожие притормаживали, чтобы поглазеть. Уличной пробкой их не удивишь (тоже невидаль для столицы!), а вот узнать, что за публика такая собралась, – любопытно» [15, с. 411]. Точно так же читатель отреагирует и на фамилию певца – Баскув, чей голос неизменно восхищает окружающих. Комизм заключён в том, что романный певец – негр, изгнанный из собственного коллектива, приехавшего на гастроли, и оставшийся совсем без средств: «– Точно! Назовём его как-нибудь звучно: Гром-ский… Или Шумский… Нет… Может, Звонский?.. Не то…– Может, Баскув? – сказал Родион. <…> Гениально! Баскув! Чёрный голос России!» [15, с. 409].
Все приведённые примеры подтверждают тезис о том, что использование прецедентных текстов активизирует читательское восприятие. Таким образом, интертекстуальность в массовой литературе прежде всего служит коммуникативной цели – установлению диалогических отношений между автором и читателем. И в этом сходство художественной литературы с журналистикой.
Апелляция к прецедентным текстам в процессе коммуникации может служить самым разнообразным целям. В исследовании Л. Г. Бабенко выделяется несколько типичных «задач» прецедентных текстов: характеристика художественного образа, выявление психологической доминанты героя, передача эмоционального состояния персонажа и т.д. [2, с. 68–74], но, наверное, основной следует назвать социализацию изображения. Автор, сознательно или нет, создаёт текст, содержащий отсылки к хорошо известным читателю явлениям определённого культурного ряда.
Ю. М. Лотман писал: «Изучение “массовой культуры” становится одной из наиболее острых проблем современной социологии. Она непосредственно влияет на теоретические построения исследователей современного искусства, в особенности тех его видов, которые прямо связаны с техническими достижениями в области массовых коммуникаций» [9, с. 818]. Социологи рассматривают массовую литературу как источник представлений о современном человеке [5], поскольку она подчёркнуто социальна [8]. В этом плане романы А. Чижа могут служить иллюстрацией к исследованиям социологов.
Можно обратиться и к другому авторитету. Интертекстуальность, по наблюдениям Р. Барта, не только не отрывает художественный (публицистический) текст от социального контекста, но и предусматривает определённый «социальный объём» [3, с. 516]. Литературное произведение, уподобляясь фильму, разным формам шоу и др., сближается с реальностью, в которой живёт массовый читатель, становится явлением иного порядка, нежели высокое искусство.
Процессы игрореализации, характерные для массовой литературы, предполагают одновременное развитие в нескольких направлениях. Одно из них вовлекает конкретное произведение в сложные взаимоотношения с другими. Это свойственно и романам А. Чижа, которые уже историческим антуражем напоминают произведения Б. Акунина. Высказывалось мнение, что Антон Чиж – это ещё один псевдоним Г. Ш. Чхартишвили, настолько мастерски в его романах выстроена детективная интрига, а герои – живые люди, наделённые запоминающимися характерами и индивидуальными чертами. Добавим хороший русский язык и стилистику текста, и мысль об очередной мистификации господина Чхартишвили (история с Брусникиным) получает право на жизнь. Тем более что в романе «Смерть мужьям» герой вспоминает, что в самом начале карьеры написал знаменитому сыщику Эрасту Петровичу Фандорину письмо, но так и не получил ответа [16, с. 47–48]. Так, «сериальный» герой акунинских романов становится частью реальности, созданной А. Чижом. Этот приём никак нельзя считать изобретением этого писателя, он давно известен в литературе, часто встречается, и у Акунина (в его многочисленных стилизациях и не только) в том числе.
Сам А. Чиж тоже не чужд мистификации, что правомерно рассматривать как один из процессов игрореализации. В первых публикациях его фамилия писалась в дореволюционной традиции и выглядела как «Чижъ» (на некоторых сайтах такое написание сохранено). На обороте обложки помещалась фотография автора, стилизованная под старинный дагерротип. Вопрос о реальности имени автора так до сих пор и не прояснён, хотя на литературных сайтах в Интернете он представляется как реальное лицо, наделённое биографией. Автор часто позиционирует себя как часть романной реальности. Он тоже вовлечён в процесс игры. Обыгрывается его имя. Так, в романе «Аромат крови» Ванзаров в интересах следствия представляется людям не своим настоящим именем, а в качестве Антона Чижа:
«– Какой вы, оказывается, милый, господин Чиж…
– Называйте меня Ванзаров Родион Георгиевич.
На удивлённый взгляд барышни было дано разъяснение:
– Мой творческий псевдоним. Иногда романчики пописываю криминальные. Под своей фамилией нельзя, сами понимаете – полиция» [15, с. 308].
Интересно, что, когда собеседница просит его назвать свои произведения, он называет подлинные романы Чижа: «– Ну, хоть названия скажите, жутко любопытно встретить живого автора! – “Мёртвый шар” и “Смерть мужьям”, – выпалил Родион первое, что пришло на ум» [15, с. 308]. В романе «Божественный яд» [18] обыгрывается похожая ситуация.
Таким образом, автор включается в круг героев, но не как участник событий, а как принадлежность к игровому миру, воссозданному в романе. Всё, о чём шла речь, усиливает ощущение условности, идущее в разрез со стремлением к достоверности, поддерживаемым многочисленными историческими реалиями, стилем речи героев, логикой их поведения и многим другим. В результате создаётся провокационная реальность, сбивающая с толку читателя и вовлекающая и его в игру.
Интертекстуальность – одно из качеств массовой литературы, о чём мы уже писали [4]. В данном исследовании «чужое слово» рассматривается в связи с процессами игрореализации, характерными не только для беллетристики, но и для прессы, рассчитанной на того же массового читателя. Не будем углубляться в изучение журналистики, тем более что это уже сделано в диссертации К. Ю. Мосесовой [12]. Обратимся к литературному тексту и попытаемся понять, какова цель создания атмосферы игры в романах А. Чижа. Наверное, стоит взять за основу тезис о том, что в массовой культуре (а именно её составляющими являются и литература, и журналистика, рассчитанные на обывателя) происходят процессы, имеющие своей целью привлечь внимание читателя, заинтересовать и увлечь его.
В журналистике интертекстуальность рассматривают как главную идею текстовой игры. Думается, что в художественной литературе диапазон используемых средств гораздо шире, т.к. художественный текст сам по себе предоставляет для этого больше возможностей. В литературной игре определённая роль отводится аллюзивности. Обратимся вновь к романам Антона Чижа. Конечно, первым делом рассмотрим, к каким аллюзиям прибегает автор. Пожалуй, самым популярным классиком для него является Н. В. Гоголь. Аллюзии из произведений классика рассыпаны по романам Чижа: «Храмом уединённых размышлений было выбрано людное кафе» [16, с. 186]. Чиновники полиции буквально списаны с гоголевских образов: «Сам Савелий Игнатьевич был мужчиной удобным, то есть умевшим вовремя нагнуться, приложиться или выслужиться» [16, с. 66]. Обращения к гоголевскому наследию и к самому великому писателю встречаются довольно часто. Конечно, автор берёт те цитаты, что широко известны и потому узнаваемы. Изменяя их и придавая им новый смысл, он включает их в игровую реальность, усложняя изображение для читателя или придавая изображению иронический смысл.
Массовой литературе свойственен принцип десакрализации высоких литературных образцов, что мы и наблюдаем в романах А. Чижа. Наверное, поэтому аллюзивное соотнесение с классикой всегда усиливает комический эффект: «Люблю тебя, Петра варенье…» [17, с. 9]. Можно встретить фразу из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина: «…Ванзаров, добрый мой приятель, родился на брегах Невы… Позвольте, где-то это уже было?.. Ну и ладно… Вернёмся к Родиону» [16, с. 16].Таким образом, фразы из классики становятся прецедентными текстами. Именно они позволяют автору эксплицировать новые смыслы без опасения быть непонятым. Кроме того, усиливается ощущение национальной принадлежности произведений. Они как бы вписываются в известную читателю традицию, освящённую временем. Конечно, это лишь внешнее соотнесение, не затрагивающее глубинных смысловых и эмоциональных пластов классического наследия. Но даже столь поверхностное обращение к классике в соединении с другими элементами игры вовлекают читате- ля в её течение. Игровая реальность воспринимается как более сложная, а роль читателя активизируется.
Опираясь на известную теорию М. Маклюэна, который предсказал глобальную театральность коммуникации [10], можно говорить о стремлении массовой литературы к созданию «естественной коммуникации» (терминологическое определение М. Маклюэна), в которой автор и читатель находятся в «едином процессе демонстрации смыслов, их интерпретации» [10, с. 38].
Й. Хейзинга утверждал, что игра позволяет человеку переместиться в инобытие, в котором нет сословных, меркантильных и прочих ограничений: «Игра снимает то жестокое напряжение, в котором человек пребывает в реальности» [14, с. 135]. Массовая литература в большой степени видит свою задачу в развлечении публики. Но, с другой стороны, это и манипулирование аудиторией, навязывание читателям определённых способов мировосприятия, вовлечённость коммуникаторов в сферу коммерциализации, навязывание известных стереотипов.
Подводя итог, можно сказать, что процессы игрореализации в массовой литературе – явление разнородное и интересное. Его изучение позволит глубже понять механизм воздействия художественного текста на читателя, прояснить отношения автора и читателя как равноправных коммуникантов, а по большому счёту, выявить какие-то скрытые процессы, происходящие в обществе и объясняющие мироощущение современного человека.