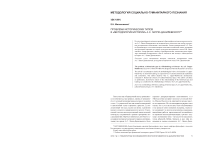Проблема исторических типов в "Методологии истории" А. С. Лаппо-Данилевского
Автор: Мотовникова Елена Николаевна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Методология социально-гуманитарного познания
Статья в выпуске: 4 (38), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка прояснить философско-методологические взгляды А.С. Лаппо-Данилевского на историческую типологию как особое построение исторического объяснения и систематики. Анализ размышлений А.С. Лаппо-Данилевского и его комментаторов дополняется попыткой понять основания деструктивной критики им теории культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. Автор приходит к выводу о предварительном, неокончательном характере понимания исторического типа и типологии как метода в «Методологии истории» А.С. Лаппо-Данилевского.
Методология истории, типология, исторические типы, a.c. лаппо-данилевский, культурно-исторические типы, н.я. данилевский
Короткий адрес: https://sciup.org/170175679
IDR: 170175679 | УДК: 1(091)
Текст научной статьи Проблема исторических типов в "Методологии истории" А. С. Лаппо-Данилевского
Типология как общенаучный метод применяется и понимается, как правило, трояко, в зависимости от условий интерпретации ключевого понятия «тип»: 1) сущностный тип как некий изначальный и неизменный «план строения», архетип; 2) эволюционный тип как стадия или ветвь в развитии некоего сложного иерархического целого; 3) идеальный тип как методологический аналитический конструкт, создаваемый в рамках программы исследования [6]. Научная значимость античного эссенциализма (представляющего первую интерпретацию) во время А.С. Лаппо-Данилевского была серьезно дискредитирована позитивизмом, и в «Методологии истории» весомость взглядов Конта, Милля, Вундта и пр. признается весьма заметно и откровенно. Но что еще важнее в рамках темы статьи, это то, что на его веку были опубликованы и не прошли мимо внимания историка, тщательно следившего за методологическими новинками, важнейшие работы представителей позднейшего по времени институционализации, третьего подхода к пониманию типа - методологии идеальных типов (Дильтей, Вебер, Зиммель и др.). Для понимания и оценки сделанного А.С. Лаппо-Дани- левским в исторической методологии необходимо прояснить среди прочего и его позицию относительно типов, которым он уделил столь значительное внимание в «Методологии истории». Авторы одной из основных монографий о его творчестве, А.В. Малинов и С.Н. Погодин, считают даже, что в учении об исторической типологии воплотилось «в наибольшей степени теоретико-методологическое понимание Лаппо-Данилевским исторической науки» [5, с. 209].
В общей систематизации материала книги Лап-по-Данилевский исходит из противопоставления номотетического и идеографического подходов как главных методологических альтернатив в современной ему теории истории (см.: [4, с. 54-57]). Он замечает в историографическом обзоре, что «стремление изучать “типическое” находилось в связи и с отысканием законов истории» [4, с. 74] и, соответственно, свои размышления о методологии исторических типов помещает в раздел о номотетическом построении истории. Номоте-тический подход Лаппо-Данилевский толкует как построение сложных исторических законов, имеющих характер логической необходимости и всеобщности (см.: [4, с. 92]); как стремление объединить возможно большее число опытных фактов при помощи возможно меньшего числа общих понятий [4, с. 92-93]. Номотетизм признает научным только знание об общем (индивидуальное для него непознаваемо в научных понятиях), «значит, и естествознание, и история должны стремиться к обобщению» [4, с. 93]. Типологические обобщения - разновидность таких общих исторических понятий наряду с номологическими обобщениями [4, с. 93]. Таким образом, эти вводные рассуждения представляют нам, по-видимому эмпирическую типологию и второй или третий способ интерпретации типа - ни о каких вечных «сущностных планах» в таком контексте речи быть не может.
Общую основу для построения научно-исторических обобщений составляют, согласно методологическим обобщениям самого Лаппо-Данилевского, четыре принципа. Прежде всего, это принципы причинно-следственности (как в материальных, так и в психологических явлениях) и единообразия психофизической природы человека, хотя, как неоднократно указывает Лаппо-Да-нилевский, это единообразие мало обосновано эмпирически [4, с. 102-103] и само является понятием «в сущности очень мало выясненным» [4, с. 104]. Принципы эти обеспечивают возможность (которая с номотетической точки зрения представляется необходимой целью науки истории) фор мулировки необходимых причинно-следственных законов в истории с такой же убедительностью, как это делается в естествознании. (Уже из многочисленных оговорок насчет неубедительности основополагающего принципа единообразия психофизической природы становится понятно, что вся номотетическая программа в целом не может быть удовлетворительной в исторической науке, но тем интереснее становится вопрос о познавательных возможностях типологии.)
Два названные принципа, однако, Лаппо-Данилевский считает не достаточными для исторического обобщения, особенно когда приходится выяснять законы отношений или изменений «между элементами целых групп или серий» [4, с. 93] в истории; и тогда к вышеназванным добавляются принципы «консенсуса» и эволюции. Эти два принципа - не совсем «другие» по отношению к первым: «принцип причинно-следственности комбинируется в каждом из них с другими понятиями» [4, с. 104] в статическом («консенсус») и динамическом (эволюция) рассмотрении.
Причинно-следственная связь между отдельными элементами (и их группами и сериями) процесса исторических изменений - такова общая модель истории в «Методологии» Лаппо-Данилев-ского, строится ли исторический причинно-следственный ряд «с логической необходимостью» (номотетически) или на основе «фактической случайности» (идеографически); дедуктивно, от целого к части и далее к индивидуальному «продукту культуры» (номотетически), или индуктивно, от взаимодействий индивидуумов со средой к обобщающим эти взаимодействия построениям (идеографически). Характерную замену понятия развития понятием изменения и его причинно-следственным описанием в исторической науке, а также философско-методологические последствия данной редукции всесторонне проанализировал Л.П. Карсавин и отметил «Методологию истории» Лаппо-Данилевского как исключительно ясное выражение этого «ошибочного и необоснованного мнения» [3, с. 22]. Это не значит, что в книге А.С. Лаппо-Данилевского совсем нельзя встретить слово «развитие», но пользуется он им (как правило, когда сама языковая традиция препятствует употреблению «изменения» -«развитие души» или «развитие человечества») в значении «планомерного» изменения, как например, в рассуждении об эволюционизме «новейшего» понимания истории: «...в отличие от Тюрго, Кондорсе, Гердера и др., Конт уже рассуждает, по крайней мере в общей теории, главным образом о развитии (developpement), а не о “совершенство- вании” (perfectionnement)» [4, с. 109-110]. «...Понятие о развитии строится ученым под условием понятия о некоем телеологическом единстве; в его формальном значении оно оказывается и для историка логическим prius, под условием которого он устанавливает причинно-следственную связь между звеньями и располагает их в необратимый ряд; части этого целого он представляет себе в качестве причинно-связанных между собою и непрерывно сменяющихся во времени стадий данного процесса, как бы направленного к осуществлению известной цели...» [4, с. 223].
Истолковывая «консенсус» и эволюцию как разновидности причинно-следственного отношения [4, с. 105-110], Лаппо-Данилевский не забывает упомянуть об органической теории, в которой «давно уже получило свое приложение» понятие о согласованности и неразложимости целостных систем. Отмечает Лаппо-Данилевский и характерный для органической модели телеологизм, но и его трактует не в смысле органического развития как развертывания некоего потенциального начала, а в смысле некой общей внешней цели: «...ни одна из частей организма не может быть подвергнута существенному изменению, без того чтобы оно не отразилось на состоянии всех остальных; но такое понятие конструируется при помощи еще одного принципа - телеологического; части органического целого представляются нам воздействующими друг на друга “для того, чтобы произвести общее действие”» [4, с. 105]. Реализация принципа исторической эволюции описывается, со ссылкой на О. Конта, В. Вундта и К. Лампрех-та, как изучение «психогенезиса социальной группы, народа, государства и т.п.», когда историк «... устанавливает “типические” стадии культуры; он характеризует каждую из них присущею ей “психической механикой” и выясняет ее связь с предшествующей и с последующей в причинно-следственном смысле...» [4, с. 109].
Далее, при рассмотрении вопроса о помологических обобщениях, выясняется, что понятие исторического типа приходится строить, исходя из необходимости давать объяснения историческим (культурным) продуктам и, одновременно, из невозможности объяснять их «настоящими» историческими законами, в силу их (законов) фактического отсутствия в исторической науке -слишком сложные комбинации факторов слишком редко повторяются, чтобы убедиться в их осуществимости как необходимых, хотя «принципиально отрицать какую-либо возможность выработки исторических законов нельзя» [4, с. 112]. Сама по себе мысль о том, что если нельзя сформулиро вать и обосновать строгую причинно-следственную закономерность, то приходится конструировать какую-то другую форму объяснения, вполне понятна. Но о том, как именно он представляет себе процесс объяснения историко-культурных явлений, Лаппо-Данилевский высказывается не слишком ясно: «В сущности историк-социолог превращает законы комбинаций психологических факторов в типизацию их, но он придает типическим комбинациям значение реальных факторов. При помощи такого построения историк-социолог вырабатывает понятия, которые я назову понятием о племенном (или, в более узком смысле, о национальном) типе и понятием о культурном типе (данного периода); если приравнивать названные типы к реальным комбинациям причин, можно ставить их действия в связь с соответствующими культурными продуктами» [4, с. 113]. Требующий объяснения «культурный продукт» получает причинное объяснение в «комбинации психических факторов», характерной для данного племени или культуры: «Подобно тому, как психолог устанавливает известные типы характеров отдельных индивидуумов, причем усматривает некоторые зако-нообразности в соотношении между характером данного типа и соответствующими поступками, так и историк может стремиться построить психический тип данного племени или народа и его свойствами объяснять соответствующие массовые движения и продукты культуры» [4, с. 115]. Иными словами, объяснение деятельности исторического субъекта строится аналогично психологическому, а именно обобщенно-характерологическому истолкованию поступков и действий отдельного человека. Контекст размышлений не дает возможности уточнить смысл реплики об историке, который «придает типическим комбинациям значение реальных факторов». Что они в действительности не имеют этого значения, и тогда тип - идеальный конструкт? Или что это невозможно (или пока не удалось) установить, но гипотетически предполагается? «В реалистических построениях психического типа данного племени или данной нации и “культурного” типа, поскольку они рассматриваются как сложная комбинация причин, порождающая соответственные продукты культуры, можно, таким образом, усмотреть попытку установить некоторую законосообразность отношений в данной последовательности не с чисто психологической, а с историко-психологической точки зрения» [4, с. 121]. И здесь А.С. Лаппо-Данилевский последователен в своей приверженности объявленному принципу причинно-следственного отношения: «Не устанавливая логически необходимой и всеоб- щей причинно-следственной связи, эмпирическое обобщение только формулирует некое единообразие в последовательности или в сосуществовании такого отношения, которое обнаружилось во всех случаях, подвергшихся нашему наблюдению... Только тогда, когда комбинация психических факторов сама будет подведена под закон, и исторические обобщения, при объяснении которых мы пользуемся такой комбинацией, получат характер законов. <...> Историкам, стремящимся к открытию их, в лучшем случае приходится пока довольствоваться гадательными эмпирическими обобщениями» [4, с. 124-125].
Критически рассматривая номологические исторические обобщения, Лаппо-Данилевский констатирует размытость границы между ними и обобщениями типологическими [4, с. 138], но тем не менее посвящает отдельный параграф типологическим обобщениям, хотя так и не находит в них необходимой постоянно и единообразно действующей причинности и даже допускает возможность произвольного толкования значения культурного типа [4, с. 139]. Казалось бы, это свидетельствует в пользу конструктивистского понимания природы типа, тем более что Лаппо-Данилевский неоднократно повторяет: «всякий тип есть наше построение» [4, с. 138]. Но это общее утверждение опровергается рассуждениями о репрезентативном типе [4, с. 128], о типе морфологическом, генеалогическом или эволюционном, феноменологическом типах [4, с. 128-130, 140], а также важным признанием, что понятие типа есть «понятие растяжимое» [4, с. 129] и что типологии различаются, в зависимости от познавательных целей, для которых они проводятся.
Если в разделе о помологических обобщениях рассматривалась (и признана довольно слабой) возможность использовать тип для объяснения «культурных продуктов», то в следующем параграфе, посвященном непосредственно типологическим обобщениям, прямо говорится, что в историческом исследовании тип используется «не для объяснения материала (в помологическом смысле), а только для его систематики» [4, с. 128]. К сожалению, нельзя согласиться с А.В. Малиновым и С.Н. Погодиным, которые утверждают, что «к проблеме типологии историк пришел от критики номотетического и идиографического методов. В этом учении можно видеть тот “средний путь”, который Лаппо-Данилевский хотел предложить исторической науке» [5, с. 209]. У Лаппо-Дани-левского речь идет о среднем по объему способе осмысления исторической эмпирии между индивидуальным и общим, однако, хотя при идео графическом подходе историк «прибегает к готовым обобщениям в качестве средств» [4, с. 180], «употребляет “тип” как своего рода критерий для установления степени уклонения от него данной индивидуальности» [4, с. 182], все же сам тип конструируется, несомненно, в рамках номотетического направления: «Содержание его оказывается общим многим отдельным предметам и поскольку такое представление сопровождается мыслью, что оно представляет собою целую группу однородных представлений ... тип есть научно установленное общее представление...» [4, с. 126].
А.В. Малинов и С.Н. Погодин обнаруживают связь между содержанием «Методологии истории» и более ранними методическими поисками историка: «Тип следует понимать как экзем-плификацию общего. В одном из своих первых курсов Лаппо-Данилевский следующим образом обосновывал необходимость типологизации в качестве способа выражения общих понятий: “Общие понятия должны быть представлены в типических образах, т.е. единичных, но характерных случаях, в которых ученик мог бы всегда чувствовать проявление общих начал”» (курсив мой. - прим. авт.). [Цит. по: 5, с. 212] Здесь понятие типологии некорректно отождествляется с понятием типизации как приема художественно-эстетического изображения, а не научного конструирования, создания не обобщенно-типового, а индивидуально-своеобразно-типическо-го, характерного. Основание для такой подмены дает, впрочем, сам Лаппо-Данилевский, не только когда использует слово «типизация» как синоним «типологизации», но и когда в параграфах, посвященных рассмотрению идеографических исторических индивидуализаций, наряду с продолжением использования понятия типа в значении типологического обобщения, употребляет его и в значениях «репрезентативно-типического» как значительного, исторически-значимого [4, см. с. 181], и в значении просто характерного: «типические для данного времени факты (если они типичны) получают значение и с идеографической точки зрения» [4, с. 181].
Трудность прояснения мысли автора о строении типа как мысленного конструкта усиливается тем, что национальный и культурный типы приводятся Лаппо-Данилевским в качестве примеров как типа идеального (теоретического), так и морфологического (эмпирического) (ср.: [4, с. 128] и [4, с. 138-139]). Эти противоречия не помогает разрешить и исходное описание Лаппо-Данилевским построения данных (основных для истории) типов на заявленных принципах причинно-следственности, единообразия психофизической природы человека, консенсуса и эволюции. «В основе обоих понятий лежит мысль о законосообразной комбинации психических факторов, соответственно производящей при тождественности условий одни и те же следствия: только постоянство такого соотношения в понятии о племенном типе строится преимущественно во времени, а в понятии о культурном типе - преимущественно в пространстве...» [4, с. ИЗ]. Кроме уже оговоренной причинно-следственной связи, здесь, как видно, вводятся параметры пространства и времени, которые якобы позволяют разграничить понятия национального (племенного) и культурного типов в истории. Появление общенаучных категорий пространства и времени в исторической методологии, конечно, вполне ожидаемо, тем более что и поясняется далее вполне тривиально: «...лишь понявши, почему изучаемый факт оказался в данном месте и случился в данное время, можно объяснить себе, почему он в качестве части получил такое, а не иное реальное значение для данного целого... и только представивши его в определенном индивидуальном положении в пространстве и во времени, можно судить о его реальном значении для того целого, частью которого он оказывается» [4, с. 202]. Но что это значит применительно к типам - из пространственно-временных характеристик следует культурное и национальное значение или наоборот? Почему племенной тип постоянен во времени, а культурный в пространстве, а не наоборот? «Различие указанных точек зрения видно из того, что, рассуждая о племенном типе, мы говорим: все люди, принадлежащие данному племени, хотя бы они были разных поколений, должны иметь нечто общее между собой в психическом отношении; а рассуждая о культурном типе, мы говорим: все люди, находящиеся на данной стадии развития культуры, хотя бы они принадлежали к разным племенам (нациям), должны иметь нечто сходное или общее между собою в психическом отношении...» [4, с. ИЗ-114]. В этом якобы объясняющем различие рассуждении легко поменять местами понятия «племенной» и «культурный», так же и «племя» и «культура» - и его осмысленность и убедительность нисколько не пострадают, хотя автор варьирует отношения между понятиями «психические типы» и «повторяемость продуктов» культур и племен еще на нескольких страницах. Косвенное подтверждение мнимости различия между временным и пространственным параме трами типов можно встретить в еще одной значимой монографии о Лаппо-Данилевском, где вполне компетентный автор, излагая его учение о племенном и культурном типах, характеризует их, исходя, очевидно, из смысла понятий «консенсус» и «эволюция», и у него получается, по сравнению с оригиналом, именно «наоборот»: «Согласно ученому, племенной тип конструируется с помощью метода консенсуса в пространстве; культурный тип - с помощью метода эволюции во времени» [7, с. 118]. Разумеется, текст от этого нисколько не пострадал и, думаю, никто из читателей этой известной книги «ошибку» даже не замечает.
Наконец, нельзя обойти вниманием деструктивно критическую позицию А.С. Лаппо-Дани-левского по отношению к теории культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского, в которой он усмотрел якобы некорректное «смешение» двух разных типов: «Некоторые ученые смешивали понятие о национальном типе с понятием о культурном типе и придавали известным народностям значение постоянных культурно-исторических типов. Не говоря уже о том, что естественнонаучную предпосылку этой теории нельзя признать правильной, такое построение противоречит и собственно историческим фактам: ведь один и тот же народ в разные периоды своего развития может принадлежать разным культурным типам; вместе с тем нельзя не заметить, что и разные слои одного и того же общества могут оказаться разных культурных типов; стоит только припомнить хотя бы тип «первобытного человека» или тип «светского человека», не столько связанного с своим народом, сколько подчиняющегося условностям того международно-общественного круга, к которому он принадлежит» [4, с. 118]. Крайне неудачные примеры «типов» доисторического «первобытного человека» и неопределенного, как мог бы сказать сам А.С. Лаппо-Данилевский, ни в пространстве, ни во времени, то есть тоже не исторического, «светского человека» можно, пожалуй, объяснить неокончательным характером текста книги. Существенны, однако, методологические замечания о смешении типов и о естественнонаучной предпосылке теории. Уже через три страницы Лаппо-Данилевский справедливо замечает, что «нельзя принимать во внимание только один из типов - или племенной, или культурный - для объяснения из него данного продукта культуры; оба вместе, конечно, оказывают в известной мере влияние на данный продукт; <...> историк не может довольствоваться одним из вышеуказанных понятий для объяснения их возникновения; с такой точки зрения изучаемый писатель, например Лафонтэн, рассматривается как продукт не только данной национальности, но и культуры данного времени, его произведения признаются выражением общества данного периода, его настроения, его вкусов, его стремлений и т.п.» [4, с. 121]- как видим, и культурная разница между слоями общества может не иметь значения в некоторых случаях. Уместность применения в исторических науках естественнонаучных методов обобщения получает оправдание в следующем параграфе, при описании разновидностей типологических построений, в частности, морфологического типа, который «сыграл заметную роль и в естествознании, и в языкознании; пользуясь тем же построением, социологи рассуждают о «типах общественного строения», о формах правления и т.п.» [4, с. 130]. Таким образом, оба критических замечания опровергаются словами самого А.С. Лаппо-Данилевского, и это указывает на искусственный, придуманный характер критики, основанной в первую очередь на идейном предубеждении европоцентриста [7, с. 132] против славянофила. Однако здесь можно усмотреть и неотрефлектированный методологический конфликт: для Н.Я. Данилевского культурно-исторический тип развития - не «наше построение», а онто-историческая реализация божественного плана строения (тип в первом, античном смысле), «проявление самого духа, стремящегося осуществить типы добра, истины и красоты» [2, с. 71]; для него абсолютно неприемлем абстрагирующий социологизирующий разрыв национального и культурного в историческом анализе; а с другой стороны, его нисколько не смущает отсутствие «причинно-следственно-сти» в эмпирически выявленных закономерностях, непостижимость таинственных основ органического исторического развития народов и культур. Для А.С. Лаппо-Данилевского, судя по всему, ценность концепций российских мыслителей определяется не их самобытностью, а напротив, степенью их совпадения с европейскими учениями, и в этом его настроении научного «западничества» ему трудно было оценить адекватно теорию культурно-исторических типов.
Этот познавательный настрой помешал Лап-по-Данилевскому не только внимательно прочесть «Россию и Европу» и оценить методологическую строгость и «объективность естествознания», отмеченные его учителем К.Н. Бестужевым-Рюминым [1, с. 435], благословившим его на разработку теоретико-методологических проблем истории [8, с. 113; 7, с. 60], но главное - он не увидел в работе Н.Я. Данилевского многих интересных и важных для себя и своих изысканий методологических идей. Среди них, например, различение степеней развития и типов развития [2, с. 71, 73]; типологические черты народного характера [2, с. 113], в том числе как ключ к объяснению различий между абсолютными и общими ценностями [4, с. 198]. Можно предположить, что актуальным для Лаппо-Данилевского, с точки зрения анализируемой им методологии идеографического подхода, могло стать незамеченное им использование культурно-исторической типологии для сравнительного изучения «конкретной действительности» историко-культурной индивидуальности [4, с. 141-142, 221], которое особенно полно показано Н.Я. Данилевским на славянском и романо-германском типах.
В целом можно сказать, что А.С. Лаппо-Дани-левский провел большую предварительную обзорно-энциклопедическую, частично аналитическую и критическую работу, но определенно не успел разработать и сформулировать то, что можно было бы назвать методологическим учением об исторической типологии.
Список литературы Проблема исторических типов в "Методологии истории" А. С. Лаппо-Данилевского
- Бестужев-Рюмин К.Н. Теория культурно-исторических типов//Данилевский Н.Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому. СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, Изд-во «Глаголь», 1995. С. 432-462.
- Данилевский Н.Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому. СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, Изд-во «Глаголь», 1995.
- Карсавин Л.П. Философия истории. СПб.: АО Комплект, 1993.
- Лаппо-Данилевский A.C. Методология истории. М.: Изд. дом «Территория будущего», 2006.
- Малинов A.B., Погодин С.Н. Александр Лаппо-Данилевский: историк и философ. СПб.: «Иску сство-СПБ», 2001.
- Огурцов А.П. Типология/Новая философская энциклопедия . -Режим доступа: http://iphras.ru/elib/3019.html
- Ростовцев Е.А. A.C. Лаппо-Данилевский и петербургская историческая школа. Рязань, 2004.
- Ростовцев Е.А. Н.И. Кареев и A.C. Лаппо-Данилевский: из истории взаимоотношений в среде петербургских ученых на рубеже XIX-XX вв.//Журнал социологии и социальной антропологии. 2000. T. III. № 4. С. 105-121.