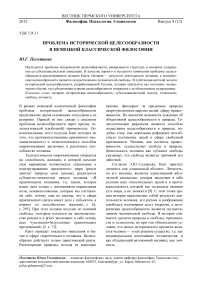Проблема исторической целесообразности в немецкой классической философии
Автор: Полетаева Юлия Геннадьевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология @fsf-vestnik
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4 (12), 2012 года.
Бесплатный доступ
Исследуется проблема исторической целесообразности, раскрывается структура и основное содержание ее субстанциалистской концепции. В качестве первого и исходного понимания проблемы целесообразности рассматривается позиция Канта. История — результат деятельности человека, а историческая целесообразность является осуществлением человеческой свободы. В субстанциалистской модели исторической целесообразности, разрабатываемой Гегелем, история трактуется как состояние человеческого бытия, где субъективная сторона целесообразности сопряжена с ее объективным содержанием.
История, историческая целесообразность, субстанциалистский подход, телеология, свобода, личность
Короткий адрес: https://sciup.org/147202863
IDR: 147202863 | УДК: 124.31
Текст научной статьи Проблема исторической целесообразности в немецкой классической философии
Кантовская концепция исторической целесообразности заключала в себе предостережение против губительного воздействия на историю попыток противопоставить человечество (общество, социум) отдельному индивиду, сделать индивида материалом осуществления великих целей. Дело в том, что рационалистическая телеология, независимо от того, на какие основания она опирается — вечные принципы метафизики, теорию разумного эгоизма, идею всеобщего блага или волю народа, приводит к абстрактным конструкциям. Отвлеченный характер этих конструкций в ходе их практического осуществления оборачивается взрывным распространением зла в мире — жуткая ирония истории, которую открыл Кант и которую иногда истолковывают как проявление подспудного пессимизма кантовской философской антропологии и философии истории. «Основание злого, — писал Кант в “Религии в пределах только разума”, — находится не в каком-либо объекте, который определяет произвол через влечение, и не в каком-либо естественном побуждении, а только в правиле, которое произвол устанавливает себе для применения своей свободы, т.е. в некоторой максиме» [7, с. 272]. Мы позволим себе завершить подведение итогов кантовских размышлений об истории выдержкой из работы одного из крупнейших отечественных кантоведов: «Резюме кантовской философии истории могло бы, соответственно, выглядеть так: люди должны извлечь урок из своего прошлого, которое переполнено тщетными попытками достичь гармонии и совершенства. Урок не может состоять ни в отказе от идеального целеустремления, ни в учете и “исправлении ошибок” в расхожем смысле данного выражения. Дело не в дефектах человеческой рассудительности и смекалки… Дело в том, что человек не может осуществлять заданного природой целеустремления, если в горьком опыте истории не меняется сам, не претерпевает нравственных преобразований, затрагивающих его основные представления о сущем и должном. Исторические проблемы таковы, что их нельзя решить утилитарнопрагматически, не реформируя самого образа мысли, носителю которого они предъявляются» [3, с. 438–439].
Кантовское решение проблемы целесообразности в истории в силу различных причин казалось его современникам утопическим, равно как, например, и идея вечного мира. Возможно, что общая духовная атмосфера Про-34
свещения, в которой доминировал откровенный и принципиальный антиисторизм, отбрасывала соответствующую тень и на восприятие кантовских идей. Во всяком случае, еще при жизни Канта возникло так называемое историческое движение, начиная с работы Гердера «Идеи к философии истории человечества». Это движение видело в историзме панацею против утопизма идей Просвещения, отвлеченности трансцендентального идеализма, вообще — путь к реалистическому, скорее даже прагматическому познанию действительности. Обостренное внимание к вопросам практического воплощения идей составляет «нервный узел» времени на переломе XVIII и XIX столетий, люди которого были обескуражены теми зигзагами воплощения благих целей в истории, которые продемонстрировала французская революция с ее чудовищными оборачиваниями первоначальных лозунгов: свобода, равенство, братство. К числу прожектеров, уповавших на особую роль моральных принципов в истории, прагматики-историцисты отнесли и Канта.
Оставляя в стороне вопрос о справедливости подобной оценки кантовского подхода к пониманию истории и исторической целесообразности, в том числе, отметим, что способом осуществления историзма стал субстанциали-стский подход, реализованный Гегелем. Мы обращаемся к диалектическому учению Гегеля об истории и целесообразности в истории постольку, поскольку оно (диалектическое учение) стало доктринальной основой философской традиции, складывавшейся в отечественной философии в течение целого столетия, и сохранило свое воздействие на теоретикометодологические представления об истории вплоть до последнего времени. Поэтому наш анализ гегелевской концепции целесообразности в истории имеет не историко-философское, а вполне актуальное социально-философское значение. Реконструкция гегелевской концепции позволяет выделить основные представления и принципы, образующие структуру исторической картины мира, находящейся в массовом обороте и сегодня.
Преодоление кантовского априоризма Гегель начинает с ревизии оснований его метода. Содержание понятия как системы, соединяющей в некоем отвлеченном пространстве возможного мышление и субстанцию (вещь саму по себе), интерпретируется Гегелем как объективный, независимый от сознания онтологический процесс. По Гегелю, «абсолютная субъек- тивность» — это инобытие понятия. Для него, в отличие от Канта, органическая цель природы тождественна имманентной цели развивающегося разума. Изложение и развитие этого гегелевского положения мы находим у Н.Н. Трубникова: «Целевая деятельность и теоретически не может быть чем-либо иным, чем действием закономерностей самой природы. И тогда причинность “по целям”, “причинность из свободы” не только не опровергает причинности “из необходимости” но предполагает ее, оказывается возможной лишь при ее непременном условии» [10, с. 32]. Снятие кантовской оппозиции природы и свободы, подчинение и того, и другого более высокому (общему) принципу ведет к исключению этического аспекта целесообразности посредством объективации целесообразности как «в-себе-понятия», фундированного развитием [5].
Этот более высокий (всеобщий) принцип, снимающий в себе оппозицию природы и свободы, есть логическое, онтологически представленное в виде субъект-субстанции, т.е. субстанции, получившей способность (в отличие от спинозовской «causa sui») к самоизменению и саморазвитию. В контексте так понятого логического истолковывается понятие целесообразности. Теперь оно предопределяет жизнедеятельность, ее самосохранение и самовоспроизведение, в результате чего живое является тем, что «себя сохраняет» и «в себя возвращается». Сущность «немеханических» отношений (в том числе этики и морали) может быть раскрыта лишь через объективацию целесообразности. В соответствии с этим история понимается как диалектическое развитие человечества, осуществляемое посредством целесообразной деятельности. Данный тезис широко представлен в работах советских марксистов 60–80-х гг. ХХ в. (Э.В. Ильенков, Н.Н. Трубников, Н.В. Мотрошилова, Т.И. Ойзерман, И.С. Нарский, М.Ф. Овсянников и др.).
Действительным носителем (конструктором) истории у Гегеля оказывается логикогенетический принцип, лежащий в основе диалектического перехода от механического к химическому и далее к телеологическому. Этот переход образует имманентное содержание абсолютной идеи и структурный план (матрицу) развертывания исторического процесса как целого. В гегелевской концепции телеологическое фиксируется в той мере, в какой целесообразность трансформируется в схему мышления, реализуемого в процессе деятельности человека в окружающей действительности — в истории [1]. Диалектическую функцию среднего термина между целью как субъективным образом и предметом, который (средний термин) является не просто соединением между крайними терминами, но выражает необходимую связь всеобщего (абсолютной идеи) с единичным (деятельность человека), выполняет категория «средство» — логический коррелят техники. В данном отношении техника («средство») выполняет задачу сочленения субъективного и объективного элементов, играет роль опосредствующего звена между субъективной и «выполненной» целью. Гегель утверждает, что весь этот средний член, стало быть, сам есть цело-купность умозаключения, в котором абстрактная деятельность и внешнее средство составляют крайние члены, а определенность объекта целью, в силу которой он средство, — их средний член. Всеобщность есть соотношение целенаправленной деятельности и средства. Средство есть объект, есть в себе целокупность понятия; оно не в силах сопротивляться цели, в отличие от того, как оно сопротивляется любому другому непосредственному объекту. При этом средство всецело проницаемо для цели (которая есть положенное понятие) и восприимчиво к тому, что ему здесь передается, так как в себе оно тождественно с целью [2, с. 198– 199].
Средство деятельности (техника), будучи предметом внешнего мира, оказывается «мостом», по которому всеобщее в форме цели перемещается из сферы мышления в сферу природы. Такое перевоплощение идеального в предметное всегда частично и неполно, что фиксируется термином «отчуждение» с присущими ему негативными коннотациями, но вместе с тем целесообразность, став объективным планом человеческой деятельности, проявляется на стороне человека как свобода — важнейший признак истории как пространства и времени осуществления понятия, в котором цель (человеческая субъективность) достигает всеобщности. Гегель подчеркивает эту особую функцию техники (средства) в придании бытию человека (общества) исторического характера следующим положением: «…таким образом, механическая или химическая техника, будучи по своему характеру определенной извне, сама собой предлагает себя отношению цели» [2, с. 192]. Иными словами, решение проблемы исторической целесообразности непосредственно связано с вопросом о роли техники в осуществлении человеческой деятельности.
В данном контексте представляют интерес размышления Н.Н. Трубникова об общей структуре логического и реального целеполагания. Несмотря на то что Гегель не отчленяет логическое определение (суждения или деятельности) от их реального определения, телеологическое отношение (связь цели, средства и «выполненной цели») представляет собой «заключение действования», т.е. не формальное, а содержательное заключение. Согласно Трубникову, телеологическое отношение принципиально регулятивно. Оно не предопределяет предметного содержания результата, но только обусловливает выявление вовне той объективности, которая заключена в объекте деятельности или рефлексии (суждения). Во-первых, категория «средство» является опосредованным единством «абстрактного средства» как способности служить цели и объективного содержания (его предметной формы). Во-вторых, характерный логический регресс взаимоопреде-ления средства и цели, по Гегелю, оказывается логически всеобщим аналогом реального процесса их определения, логически всеобщим аналогом исторического развития [10].
В качестве промежуточного итога мы приходим к следующим выводам. Во-первых, исследуя акт целеполагания, содержащего «умозаключение» от субъективной цели к «выполненной цели» (результату деятельности), Гегель показал, что цель находит свое полное определение не в голове субъекта, а через многократное соотнесение со средством, каковое (соотнесение) и представляет собой поступательно развертывающуюся и циклически воспроизводящуюся деятельность по достижению намеченного результата. Средство (техника) определяет способ, каким происходит «снятие» противоположности между идеальным характером цели и реальностью бытия и соединение идеального и реального в новом содержании, преодоление противоречия и разрыва между ними. Этим способом является становление, и оно (становление) является онтологическим «корнем» человеческой свободы. Во-вторых, решение вопроса о месте и роли морали в объективации целесообразности, по Гегелю, предрешено предыдущим тезисом. Возникновение нравственности совпадает с генезисом общества. В процессе совокупной человеческой деятельности с помощью средств (промышленной и социальной техники) мораль получает объек-36
тивную, действительную всеобщность и необходимость, социально-практическое осуществление. Вследствие этого понятие нравственности выражает единство субъективной воли и деятельности, сознания и действительности. Специфика нравственности, по Гегелю, заключается в ее тождественности праву, корпоративным и организационным нормам [4]. Мораль тем самым устанавливает ряд принципов, следование которым поддерживает социальнопсихологическую атмосферу взаимного доверия, открытости и признанности, необходимую для достижения коллективных и индивидуальных целей.
По сути, история рассматривается как состояние человеческого бытия, в рамках которого сопрягается субъективная сторона целесообразности с ее объективно-закономерным содержанием. Это сопряжение субъективного и объективного в целесообразной деятельности, «снятие» их внеположенности и качественного различия, во-первых, представляет элементарную, массовидную форму истории, во-вторых, является процессом, осуществляющимся во времени, а в-третьих, развертывается по следующим ступеням: a) отношение необходимости, b) объективность, c) снятие различия между циклическим и линейным в историческом процессе посредством категории «средство».
Ведущая характеристика исторического процесса, по Гегелю, — единство исторического процесса и многообразия его форм, обусловленное доминированием логического. На первой ступени логическое проявляется как отношение необходимости. Взятая как отношение, необходимость выступает не в виде явления природы, внеположенного человеку (сознанию), а как ступень становления целесообразности, т.е. нечто, непосредственно связанное со знанием, открытое в сторону человека, познания и деятельности. Связанная со знанием, открытая в сторону познания и деятельности необходимость содержит в себе свою противоположность — свободу. Вот как рассматривает Гегель этот вопрос в «Науке логики»: телеологическое отношение выступает как самоопределяющееся. Это отношение должно быть понято с учетом понятия необходимости. Необходимость приобретает диалектически подвижный характер, когда «свобода должна стать необходимостью, необходимость — свободой» [1, с. 32]. Согласно В.Ф. Асмусу, «у Гегеля идея их сосуществования переходит в идею генезиса. Свобода становится в развитии мира. Мир есть история духа, и в этой истории свободе предстоит одержать победу над необходимостью. Свобода и необходимость — не стороны действительности, но скорее ступени ее развития». Другими словами, «полярность противоположности свободы и необходимости снимается» [1, с. 32].
Здесь перед нами иная конструкция целесообразности, по сравнению с кантовской. У Канта дуализм мира природы и мира свободы преодолевается в особом онтологическом «месте» — это человек, наделенный автономией и свободно осуществляющий свою цель. Его свобода и его деятельность — не видимость и не игра, а главный фактор истории. История, ее конкретный ход, ее результаты на том или ином отрезке времени не есть что-то предрешенное, ей не предшествует заранее заданная канва, которой люди по мере своих сил и способностей пытаются следовать. Историческая целесообразность есть совместный продукт человеческой разумности и нравственно обусловленной способности к практическому воплощению целей. Человек, обладая реальной свободой выбора, несет моральную ответственность за содержание своих целей и за результаты своей деятельности. В этом смысле моральность человека становится важным аспектом исторического процесса наряду с его объективными (природными и социальными) условиями. «Целеполагание заслуживает своего названия лишь в том случае, если оно автономно, автономным же оно может считаться только тогда, когда базируется на основных определениях долженствования (безусловных запретах, нормах, ценностях). Целеполагание — это должное, обращенной на сущее и в нем ищущее своей реализации» [8, с. 108]. У Гегеля ход истории предрешен, поскольку идея представляет ее внутренний план, а люди по большому счету являются марионетками, за спиной которых на сцене истории действует мировой дух. Человек же, отягощенный природностью, остается в плену многочисленных случайностей, зависит от их игры, обречен на неудачу и оказывается носителем онтологической вины. Осознание этой вины, по Гегелю, дает человеку свободу, содержание которой — вера, что он не претерпевает несправедливости, что он сам кузнец своего несчастья. И тогда историческая целесообразность представляет собой процесс (и результат) осуществления внутреннего плана — идеи. В этом процессе человеку отведена роль наряду с действованием условий (природных и социальных) и соответствующих средств (техники).
Список литературы Проблема исторической целесообразности в немецкой классической философии
- Асмус А.Ф. Диалектика необходимости и свободы в философии Гегеля//Философские науки. 1970. № 5.
- Гегель Г.В.Ф. Наука логики. М.: Мысль, 1972. Т.3.
- Гегель Г.В.Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990.
- Дробницкий О.Г. «Мораль» и «нравственность» как формы общественной воли у Гегеля//Дробницкий О.Г. Моральная философия. М.: Гардарики, 2002.
- Ильенков Э.В. Диалектическая логика. М.: Политиздат, 1984.
- Кант И. Критика практического разума//Кант И. Лекции по этике. М.: Республика, 2000. C. 283-403.
- Кант И. Религия в пределах только разума. СПб.: Ювента, 1996.
- Кант И. Трактаты и письма. М.: Мысль, 1980.
- Соловьев Э.Ю. И. Кант: взаимодополнительность морали и права. М.: Наука,1992.
- Трубников Н.Н. О категориях «цель», «средство», «результат». М.: Высшая школа, 1967.