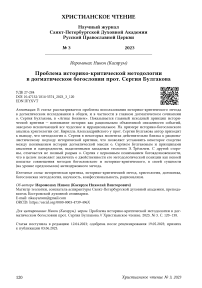Проблема историко-критической методологии в догматическом богословии прот. Сергия Булгакова
Автор: Касярум Н.В.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Богословское наследие протоиерея Сергия Булгакова
Статья в выпуске: 3 (106), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема использования историко-критического метода в догматическом исследовании в общем, и в частности в главном догматическом сочинении о. Сергия Булгакова, в «Агнце Божием». Показывается главный исходный принцип исторической критики - понимание истории как рационально объяснимой связанности событий, заведомо исключающей все чудесное и иррациональное. На примере историко-богословского анализа христологии свт. Кирилла Александрийского у прот. Сергия Булгакова автор приходит к выводу, что методология о. Сергия в некоторых моментах действительно близка к рационалистическому подходу исторической критики, что позволяет установить некоторое сходство между пониманием истории догматической мысли о. Сергием Булгаковым и принципами аналогии и однородности, выделенными западным теологом Э. Трёльчем. С другой стороны, отмечается не полный разрыв о. Сергия с церковным пониманием боговдохновенности, что в целом позволяет заключить о двойственности его методологической позиции как некоей попытке совмещения методов богословского и историко-критического, в своей сущности (на уровне предпосылок) антицерковного метода.
Историческая критика, историко-критический метод, христология, догматика, богословская методология, научность, конфессиональность, рационализм
Короткий адрес: https://sciup.org/140301634
IDR: 140301634 | УДК: 27-284 | DOI: 10.47132/1814-5574_2023_3_120
Текст научной статьи Проблема историко-критической методологии в догматическом богословии прот. Сергия Булгакова
Постановка проблемы. В начале своего самого главного богословского сочинения «Агнец Божий» (1933) прот. Сергий Булгаков помещает историко-богословское исследование ключевых этапов христианской христологии. Метод, который о. Сергий использует при этом, можно идентифицировать как историко-критический. Хотя сам о. Сергий так прямо свой подход не называет, говорит о «православном уразумении истории догматов, в качестве догматической диалектики» (Булгаков, 2000, 22). Однако с самых первых страниц высоко оценивает деятельность западных историков догмы, среди которых большинство тех, кто стоял у истоков историко-критического метода. Именно на этих исследователей о. Сергий в дальнейшем ссылается чаще всего. С другой стороны, сама направленность мысли о. Сергия в отношении принципиальных положений святоотеческой христологии именно критическая.
Суть историко-критического метода состоит в том, чтобы понять и установить первоначальный смысл того или иного текста в его исходном историческом контексте, другими словами, выявить «буквальный» смысл текста [Handbook, 2001, 79]. Прикладывая это к тексту богословского содержания, получается, что цель исторической критики (синоним историко-критического метода) — в установлении изначальной авторской позиции, свободной от привнесенных более поздних смыслов и интерпретаций.
Проф. В. В. Болотов также пишет, что историческая критика преследует цель наибольшей объективности и достоверности в изложении исторических событий, в связи с чем распадается на несколько уровней работы. Во-первых, это низшая критика, отсеивающая лишние, несущественные источники из всех первоначально собранных [Болотов, 1907, 14–15]. На этом этапе подключаются методы текстологии и т. п. Во-вторых, это высшая критика , определяющая степень «достоверности содержания документов». Высшая критика, в свою очередь, распадается на ряд этапов, первые из которых — это восстановление оригинальности того или иного текста, установление его авторства, а также разложение исследуемого текста на предположительно более древние источники и заимствования, выявление так называемого «истора», «т. е. лица, непосредственно знакомого с ходом событий», — несут несколько технический, подготовительный характер. Основной вопрос, к которому подводится вся предварительная работа, заключается в том, чтобы «определить правдивость сказания истора» [Болотов, 1907, 19]. Другими словами: можно ли верить повествованию истора? И, таким образом, историческая критика, начавшись с исключительно научных и объективных процедур, заканчивается актом внутренней личной оценки той или иной позиции, отраженной в источнике. Но для того чтобы совершить данный акт оценки, необходим критерий . В рамках историко-критического метода, примененного к историческому документу, таким критерием могут быть как сами элементы исследуемого текста (подробность, непротиворечивость текста), так и другие исторические документы и авторы. Получается, для того, чтобы исследователь поверил древнему автору, нужны достаточные убедительные исторические доказательства, которые добываются, как видно, исключительно рационально-исследовательским трудом. Таким образом, в принятии внутреннего решения доверять или не доверять «истору», исследователь будет опираться в конечном итоге на доводы собственного разума.
Как же при всем этом быть с богословским сочинением? Разумеется, низшие этапы исторической критики также приложимы и к богословскому сочинению, но когда подлинная позиция автора выявлена, ее нужно либо принимать, либо отвергать. И это ставит уже вопрос конфессиональности: достаточно ли для оценки критерия собственных доводов разума, чтобы не погрешить против истины? Или, другими словами, является ли истина в области религии, к которой принадлежат богословские тексты, исключительно рационально доказуемой и обосновываемой?
Именно к этой проблеме, проблеме выхода за рамки научности, столкновения с конфессиональными установками, приходит историческая критика как на путях ее становления (главным образом в экзегетике Священного Писания) в рамках протестантского этоса, так и в богословии православных [Федотов, 1998, 219–231], в частности в сочинениях прот. Сергия Булгакова. Однако если для протестантизма в целом стремление освободиться от влияния церкви (как иерархически организованного социального института) и традиции не вызывает удивления, то в отношении православного учения этого сказать нельзя, православный богослов не может пожертвовать конфессиональными, т. е. догматическими, установками (хранящимися в Предании) в угоду большей логичности и правдоподобности того или иного учения, что усугубляет названную проблему.
Проблема исторической критики в протестантизме. В протестантизме оформление историко-критического метода толкования библейского текста начинается с периода Просвещения, когда женевский богослов Турретини заявляет, что не должно быть каких-то иных методов толкования Св. Писания, «кроме тех, что применяются для интерпретации прочих книг» [Неклюдов и др., 2006, 375]. Отсюда дальнейшее сомнение в священном статусе библейского текста. Последующее развитие исторической критики связано с работами Ф. Шлейермахера. Здесь экзегетика, основанная на «всеобщих законах языка и мышления», соединяется с понятием науки, объявляется научной деятельностью.
Основатель новотюбингенской школы Ф. Баур, кроме научного пафоса, в своих исследованиях опирается и на диалектику Гегеля. Исторические события происхождения и дальнейшего развития христианства интерпретируются как результат борьбы, столкновений различных идей и взглядов таким образом, что христианство не есть нечто исключительное в ряду религий, предельное откровение Бога о Себе в воплощении, но есть некое естественное, т. е. вполне объяснимое, развитие одной из ветвей иудейской общины (противостояние «петринизма» и «паулинизма» и т. д.) [Неклюдов и др., 2006, 377]. Подобным «естественным» образом Баур стремится объяснить дальнейшее развитие христианской Церкви в истории. Он называет свой подход «чисто историческим», в основе которого полагает стремление отталкиваться исключительно от исторических фактов, рассматривать их как в отдельности, так и в их влиянии на формирование церковного строя [Baur, 1835, V–VI]. Из чего видно, что методология исторической критики Баура на уровне интерпретации и оценки тех или иных событий или учений сознательно отказывается от каких-либо изначальных (догматических) убеждений, а значит, оставляет только за собой (разумом исследователя) право оценки и конечной интерпретации исследуемых фактов истории. К слову сказать, данную тенденцию к «естественному» объяснению всего чудесного («натуральный екзегес») наши отечественные богословы прямо называли рационализмом [Катанский, 1871, 801; Сильвестр Малеванский, 1863, 471–472].
Достаточно ярким развитием обозначенного направления является доктрина А. Гарнака об «эллинизации христианства». На основании самостоятельной оценки событий церковной истории автор приходит к выводу о деградации и, по сути, постепенном вырождении подлинного христианского учения в ходе исторического развития церковной жизни. В частности, в «Истории догматов» (1889) Гарнак пишет: «Заявление церквей, что догматы содержат лишь изложение самого христианского откровения, выведенного из Священного Писания, не подтверждается историческим исследованием. Исследование, напротив, показывает, что догматическое христианство (догматы) и концепцией своей, и построением является делом эллинского духа на почве Евангелия. <...> Понимание догмата как чистого изложения Евангелия оказалось иллюзией» [Гарнак, 2001, 89–90]. Таким образом, церковная наука, по Гарнаку, обладает высшим критерием истинности, способным опровергать целые церковные учения, возникшие, к слову, не на путях и не методами этой исторической науки. Это явное столкновение с моментом конфессиональности и даже явное отрицание этого конфессионального критерия в церковной исторической науке, вследствие чего слово «церковный» уже не так обязательно.
С другой стороны, если ближе взглянуть, на чем зиждется эта декларируемая научность в подобных заявлениях? К примеру, вполне очевидно, что для того, чтобы понять, является ли догмат Церкви, хотя и выраженный на языке эллинской философии (другими словами, на языке тогдашней гуманитарной науки), «чистым изложением Евангелия», нужно определенное собственное понимание Евангелия, которое сравнивается опять-таки с собственным пониманием того или иного церковного догмата. И даже если, опираясь на данные исторической критики с учетом всех доступных подлинных текстов, будет корректно в соответствии с контекстом и другими сопутствующими факторами изложено и евангельское учение, и то или иное догматическое учение, все равно возникает вопрос: на основании чего исследователь может быть уверен, что он правильно понял эти изложенные учения? Ведь изложение — как передача слов — не есть еще понимание, в понимании же происходит соотношение сказанного с личным внутренним миром исследователя. Или, иначе говоря, где гарантия, что индивидуальный разум исследователя понимает Евангелие лучше, чем множество людей, стоящих по времени намного ближе к написанию евангельского текста? И чем подтвердит правильность своего понимания исследователь, например, евангельской идеи равенства Сына с Отцом (Ср. Ин 10:30), когда в самом же Евангелии есть слова, явно противоречащие ей («Отец Мой более Меня», Ин 14:28)? Содержание данных слов не может быть проверено соотнесением с эмпирической реальностью (это реальность религиозная), и поэтому исследователь остается исключительно с предположением и верой, что его вариант толкования более верен, чем другие. Где же здесь научная объективность? Остается признать, что на этапе интерпретации и оценки исследование выходит за рамки научного метода, и чтобы оставаться в научном русле, не имеет права утверждать собственную интерпретацию как исключительную (принцип фальсификации, см.: [Поппер, 1983, 62–65]). Поэтому и столкновение с конфессиональной установкой будет нарушением границ научности, заявкой на то, что подлежит области веры и имеет иные законы доказательства истинности.
Эту проблему отмечают и сами протестантские издания. Например, в статье «Историко-критический метод» «Справочника по библейской критике» отмечается, что данный метод основывается на «предпосылках, обоснованность которых не может быть доказана одним лишь историческим исследованием и которые, в конечном счете, носят философский и теологический характер» [Handbook, 2001, 78]. То же самое пишет и Майер в книге «Конец историко-критического метода»: что исследователи, придерживающиеся данного метода, всегда исходят из априорной критической установки [Maier, 1977, 11].
Наиболее серьезную концепцию метода исторической критики разработал Э. Трёльч. В статье «Об историческом и догматическом методе в богословии» (1900) Трёльч разводит догматический и исторический (т. е. историко-критический) методы как обладающие «своими собственными основаниями и проблемами» [Трёльч, 2009, 37], которые в процессе исследования нельзя смешивать. Однако статья написана как раз по причине того, что большинство исследователей смешивают назначение обоих методов. Поэтому на практике и для протестантизма проблема есть, и она отчетлива.
Для «чисто исторического» метода Трёльч выделяет три основания, или принципа, по которым он радикально противостоит догматическому методу. Во-первых, это исключительная вероятностность суждений в области истории, тогда как положения догматического метода «характеризуются безусловной достоверностью». Во-вторых, это принцип аналогии, согласно которому явления прошлого нужно объяснять, исходя из того поведения людей и тех их внутренних мотиваций, с какими мы сталкиваемся всюду в повседневной окружающей нас жизни. Трёльч пишет: «Те заблуждения, уклонения, формирование мифов, обман, страсть к партиям, которые мы видим перед собой, представляют собой средство распознавания подобных явлений в преданиях. Согласованность с нормальными, обычными или просто часто происходящими видами процессов и обстоятельствами, как мы их знаем, есть критерий вероятности для тех процессов, которые критика может признать действительно произошедшими или от рассмотрения которых она может отказаться» [Трёльч, 2009, 24]. Если это применить к области истории догматов, то оценивать те или иные догматические высказывания следует с опорой на общепризнанные логические законы, другими словами, согласно «всеобщим законам языка и мышления», как писал еще Шлейер-махер. И наконец, в-третьих, это принцип, или понимание, «принципиальной однородности всех исторических событий» [Трёльч, 2009, 24]. Уже из этих кратких тезисов становится понятным, что для исторической критики понятие чуда, некоторого сверхъестественного события в истории невозможно: все случается по вполне понятным, объяснимым причинам. Эту мысль достаточно ясно выражает и сам Трёльч: «Догматический метод не может допустить принцип аналогии, а тем более его применение, поскольку в таком случае он утратил бы свою собственную сущность, которая как раз заключается в отрицании всякой аналогичной сходности христианства с другими религиозными образованиями. Он не может погружаться во взаимосвязь всего происходящего, поскольку специфика его догматической исключительной истинности заключается именно в противоположности этой взаимосвязи, в совсем иного рода, отличающейся каузальности его материи. Конечно, и данный метод стремится опираться на „историю“, однако эта история есть не обычная, профанная история критического исторического метода. Его история — это история спасения, связь событий спасения, которые способно распознать и обосновать только верующее око» [Трёльч, 2009, 32].
Примечательны и другие слова автора: «Он (догматический метод. — и. Н. ) по самой своей сути избегает истории, с самого начала представляет собой отмеченное особыми свойствами сверхъестественности основание догматических истин» [Трёльч, 2009, 33]. Таким образом, историческая критика Трёльча, опираясь на вышеизложенные принципы, претендует на абсолютно верное изложение и изучение истории, вместе с тем она предлагает собственное понимание исторической действительности, т.е. опирается на некоторую онтологическую установку (чем должна быть история по своему качеству и внутренним свойствам). И в силу строгости этого онтологического понятия, по мысли прот. Г. Флоровского, история лишается фактора свободной личности, способной к свободному творческому самоопределению (см.: [Флоровский, 2002, 63]). История, таким образом, превращается в «разумный план», все движущие причины которого признаются рационально объяснимыми. Именно такая рационализация истории, по мнению прот. Г. Флоровского, и есть самый настоящий уход от серьезного, полноценного понимания истории (см.: [Флоровский, 2002, 64]). Подобную критику направляет в адрес Трёльча и В. Панненберг, указывая на необходимость допущения в истории случайных изменчивых факторов, а следовательно, и пересмотра самого понимания истории (см.: [Лаврентьев, 2012, 14]).
Таким образом, если догматический метод опирается на веру в чудесные события истории и на основании этого строит свое понимание истории как истории спасения, то историческая критика также опирается на бездоказательные положения, что история лишена всякой таинственности и вполне, хотя только с долей вероятности, которая с увеличением исследовательских усилий снижается, рационально объяснима. Как бы там ни было, западная концепция «чистой» историчности выходит за рамки научной методологии. На уровне интерпретации событий или учений она откровенно противостоит догматическому методу, а значит, сама представляет собой некую завуалированную конфессиональность, вернее, антиконфесиональность.
Особенности историко- критического метода прот. Сергия Булгакова. Опираясь на предложенные Трёльчем точки сопоставления догматического метода с исторической критикой, рассмотрим исследовательский подход о. Сергия Булгакова.
Главная мысль о. Сергия, лежащая в аспекте интерпретации и оценки истории христологического догмата, которая красной нитью проходит сквозь всю книгу «Агнец Божий», заключается в следующем: православная догматическая мысль начиная с III Вселенского Собора представляет собой некий уклон, в разные времена и у разных отцов более или менее выраженный, в монофизитизм и докетизм (см.: (Булгаков, 2000, 52, 58, 83, 102–103, 112, 234, 238, 245)). Речь идет о том, что, несмотря на утверждение православными двух совершенных природ во Христе, на деле, проанализировав весь период становления христологии в V–VII вв., о. Сергий Булгаков находит в святоотеческой мысли, что человеческая природа раскрыта, или выражена, или задействована во Христе не в полную меру, она выполняет функцию некоторого заслона для Божества или орудия, через которое Божественная природа действует в мире людей; на уровне двух воль — та же самая картина, человеческая воля действует в послушании Божественной, что наводит о. Сергия на мысль о неполной свободе человеческой воли, инициатива и право дозволения исходят от Бога.
Рассматривая богословие Аполлинария, прот. Сергий пишет: «Аполлинарий здесь является, несомненно, представителем монофизитствующего — в известном смысле — течения в христологии, однако имея в этом своим прямым предшественником св. Афанасия, а продолжателем св. Кирилла Александрийского и все по-халкидон-ское (северианское) монофизитство, со всеми его терминологическими неточностями» (Булгаков, 2000, 37). Получается, монофизитский уклон начинается со свт. Афанасия Великого и продолжается в богословии свт. Кирилла. Причем о. Сергий не поясняет, идет ли речь о пререкаемой формуле «единая природа Бога Слова воплощенная», которая впервые встречается в письме Аполлинария к имп. Иовиану, надписанном именем свт. Афанасия, — в подлинных сочинениях святителя такой фразы нет (см.: [Давыденков, 2007, 267-268]), или о целой тенденции в александрийском богословии. И поскольку данное декларативное утверждение не подкрепляется какими-либо ссылками, в нем можно увидеть момент изначальной предубежденности.
Далее, переходя к свт. Кириллу Александрийскому, о. Сергий отмечает в его богословии кроме терминологической неточности непоследовательность логическую, внутреннюю противоречивость мысли. «Так, где другие, стремясь последовательно и ответственно провести свою догматическую идею, впадают в ереси и попадают в тупики, св. Кирилл спокойно соединяет из его собственного богословия неоправданные, но зато соответствующие церковному учению положения, причем он делает это, однако, не только во имя подчинения разума непостижимой истине церковной, но и в порядке безответственности в богословствовании, которое требует, конечно, логической самооправданности» (Булгаков, 2000, 44). Это, в свою очередь, означает, что прямые следствия из его богословия должны приводить к догматическим уклонениям от истины. Другими словами, это значит, что свт. Кирилл не понимал до конца того, что сам говорил, т. е. делал это скорее из рвения характера, нежели в результате осмысления.
Называя эту мысль «общепризнанной», о. Сергий ссылается на западных исследователей истории догматов Гарнака, Зееберга, Лоофса, Тиксерона, Дорнера, Жужи, Лебона и др. (см.: (Булгаков, 2000, 44)). И здесь нужно заметить, что если протестантские представители либеральной теологии и метода исторической критики позволяют себе видеть в богословии свт. Кирилла непоследовательность и противоречивость, то католические и тем более православные исследователи утверждают обратное — особенную ясность мысли и духовного видения святителя (см.: [Давыденков, 2007, 257; Флоровский, 1992, 70]). Примечательно, что эту ясность учения («doctrine était très nette et très claire») отмечает и католик М. Жужи, на которого о. Сергий также ссылается [Jugie, 1912, 177]. При всем этом некоторая путаность терминологии свт. Кирилла является общим местом для всех исследователей, однако терминология и нелогичность мысли — это разные вещи.
Согласно о. Сергию Булгакову, непоследовательность мысли свт. Кирилла проявляется в том, что, защищая единство Лица или Ипостаси во Христе, свт. Кирилл уходит в крайность умаления полноты человеческой природы в Богочеловеке. «Хотя ей, — пишет о. Сергий о богословии свт. Кирилла, — приписывается полная реальность, именно до боговоплощения, однако неоспоримо, что она, не существовавшая тогда как индивидуальная человечность Христа, может быть понимаема лишь в отвлеченном платоническом смысле, общего прежде частного, или совокупности известных свойств. Эту реальность она получает только по воплощении, т. е. именно тогда, когда св. Кирилл запрещает признавать ее существование (курсив мой. — и. Н.) иначе как „в теории“ и настаивает на μία φύσις, хотя и σεσαρκωμένη» (Булгаков, 2000, 51). Последнее замечание требует некоторого пояснения, поскольку приписывает богословию свт. Кирилла то, что ему не свойственно. Как показывает прот. О. Давы-денков, в христологических спорах можно выделить два вида понимания различения природ «только в умозрении». Первое как раз-таки принадлежит свт. Кириллу и последующей халкидонской христологии и выражается в возможности различать природы «только в умозрении», потому что это различие реально существует, никто не «запрещает признавать природы существующими», однако «в силу их ипостасно-го соединения и теснейшего взаимопроникновения различие это не устанавливается непосредственно на опыте и постигается только усилием мысли» [Давыденков, 2007, 225]. Второе понимание принадлежит Севиру Антиохийскому, когда «различение носит характер субъективный, ум отвлеченно представляет и различает то, что в действительности не существует» [Давыденков, 2007, 225].
Как видно, о. Сергий смешивает эти два понимания и находит у свт. Кирилла умаление человеческой природы Христа, поскольку его человеческая природа в силу этого «только в созерцании» как бы не представлена в наличии как конкретная индивидуализированная природа, т. е. в человеческой ипостаси. Данная логика вполне понятна, поскольку нельзя иначе помыслить человеческую природу без ее конкретной ипостасной реализации либо как родовое понятие, что было принято еще со времен каппадокийцев, однако в триадологии, согласно каппадокийским отцам, реальность единой Божественной сущности утверждается ничуть не меньше реальности трех Ипостасей (см.: [Пеликан, 2007, 211]), как это может показаться по аналогии с человеческой действительностью, — куда, по-видимому, соскальзывает мысль о. Сергия Булгакова в интерпретации святоотеческой христологии. Однако если провести параллель с триадологией: как в Божественных Ипостасях не умаляется реальность общего, единой сверхсущей Сущности, так надо полагать, и Божественная Ипостась Логоса, соединяясь с человечеством, не умаляет его полноты и реальности, но, напротив, осуществляет его в полной мере. С другой стороны, человеческую природу можно также философски помыслить как совокупность всех человеческих свойств, однако свойство по своему определению лишено субстанциальности, оно всегда свойство чего-то и не существует само по себе… И снова мы приходим к вопросу о полноценности и реальности человеческой природы до воплощения.
Заглядывая туда, за завесу постижимого, о. Сергий видит у свт. Кирилла неполноценную или не полностью реальную человеческую природу, вследствие отсутствия человеческой ипостаси. «Человечность получает значение только одежды или даже храма, но остается каким-то акцидентальным нулем, хотя в то же время соединяется с Логосом нераздельно (как душа и тело в едином человеке): в боговоплощении между Богом и человеком нет никакого моста или основания для их соединения (понятно, куда клонит о. Сергий — к предвечному человечеству, т. е. Софии. — и. Н.), каковым у Нестория является συνάφεια, Оно остается у св. Кирилла как некий внешний акт. Поэтому и человечество обедняется у него или до совокупности атрибутов, не имеющих для себя ипостасного субстрата, но усвоенных Логосом, это есть „природные свойства“ (ἴδιότης ἡ κατὰ φύσιν или ποιότης φυσική, ὁ τοῦ πῶς εἴναι Λόγος), или же оно есть σὰρξ, плоть, хотя и наделяемая разумной душой, но, конечно, не выражающая собой полноты человеческого естества. Однако эта полнота его (τέλειος) y св. Кирилла утверждается, вопреки всякому докетизму» (Булгаков, 1933, 41). Вот главная точка, в которой о. Сергий скорее симпатизирует несторианствующей мысли, именно в ее большей рациональной обоснованности. Раз нет реальности, конкретности человечества Христа до воплощения, т. е. человеческой ипостаси, значит, Боговоплощение есть некое совне наложенное решение и действие, исключающее волевое свободное согласие человека, о чем учила несторианствующая мысль, говоря о постепенности соединения Бога и человека во Христе (Феодор Мопсуестийский). Здесь, как видно, проступает принцип аналогии, приложенный к догматической мысли. Догматическое учение о Богочеловеке должно укладываться в рамки логических законов, главным образом, закона противоречия: человеческая природа во Христе не может в полноте присутствовать и обнаруживаться, поскольку не имеет своей собственной человеческой ипостаси, которая дает природе ее законченность и реальность. О том, какой ответ на это дает Церковь, мы отдельно скажем далее.
Очевидно, что данный ход мысли питается неполной ясностью в понимании о. Сергием такого ключевого понятия, как «ипостась». Например, рассматривая понятийный аппарат Аполлинария, прот. Сергий пишет: «Согласно учению последнего, Логос заместил в человеческом естестве Богочеловека высшее начало в человеке, которое он называет — на языке эллинистической философии nveupa или voug, и которое соответствует ипостасному духу в природе человека» (Булгаков, 2000, 30). Здесь, как видно, о. Сергий понятия πνεῦμα и νοῦς объединяет воедино и соотносит с ипостасью человека. И далее продолжает: «Что означает νοῦς, который замещается в человеке Словом? Одну ли из способностей души, — разумность (как это обычно понимается, начиная со св. Григория Нисского), или же действительно πνεῦμα т. е. ипостасный дух, или, говоря языком Халкидонского догмата, божественную ипостась (!) и природу, причем эта ипостась воссоединяет в себе еще и природу человеческую. Мы понимаем мысль Аполлинария именно в этом, Халкидонском, смысле» (Булгаков, 2000, 30). Ссылаясь на авторитет Халкидона, о. Сергий интерпретирует понятие ипостаси как высшую составляющую человеческой природы — дух (если говорить в парадигме трихотомии), однако Халкидонский орос развивает свою мысль в понятиях дихотомии, обозначая полноту человеческой природы формулировкой «из разумной души и тела» (Ёк фихй? XoYiKqg ка1 аыцатод)1. Таким образом, соотнесение Булгаковым ипостаси с духом и превращение ее в некий ипостастный дух является безосновательным, тем более что Халкидон соотносит ипостась с лицом («в одно Лицо и в одну Ипостась»), а уравнивания лица и духа о. Сергий не делает нигде. Отсюда, очевидно смешение понятия ипостаси как лица с понятием духа как верховной части человеческой природы в трихотомической антропологии. Доказательству этой мысль посвящена большая часть книги В. Н. Лосского «Спор о Софии».
Другой фактор понимания прот. С. Булгаковым мысли свт. Кирилла как противоречивой и уводящей в монофизитизм и докетизм заключается в откровенной зависимости его от западно-протестантской науки. В частности, мысль о том, что человечество Христа является лишь предикатом Божества, что оно неполноценно, находим у Дорнера [Dorner, 1853, 66]. Лоофс пишет: «человеческая природа не имеет для Кирилла самостоятельного значения; она никогда не существовала для себя и не существует для себя, но стала καθ’ ὑπόστασιν собственной Логосу» [Loofs, 1887, 42]. «Логос принял все существенные характеристики человеческой природы как определения своего индивидуального бытия, но он не был индивидуальным человеком» [Loofs, 1887, 43]. В итоге Лоофс также находит у свт. Кирилла некоторую недооцененность, неполноценность человеческой природы во Христе [Loofs, 1887, 48]. А. Гарнак уже напрямую оценивает мысль свт. Кирилла как монофизитскую в своей основе и уводящую в докетизм [Harnack, 1905, 229]. На этих и других западных авторов о. Сергий активно ссылается и, как видно, воспринимает определенную тенденцию интерпретации и оценки святоотеческой христологической мысли.
Теперь необходимо рассмотреть сами тексты (источники), на основании которых о. Сергий приходит к такой неоднозначной оценке, чтобы понять, насколько она обоснованна.
Христология свт. Кирилла Александрийского как объект исторической критики. Начинает свой анализ прот. Сергий Булгаков с главного произведения свт. Кирилла, с «Послания к Несторию об отлучении». Приведем цитаты из «Послания» в том виде, в котором их приводит о. Сергий Булгаков.
«Слово, сущее от Бога Отца, соединилось с плотью ипостасно καθ’ ὑπόστασιν, посему Христос един со Своею плотью, т. е. один и тот же Бог и вместе человек» (2 анафематизм). «Кто во едином Христе, после соединения (естеств) μετὰ τὴν ἕνωσιν, разделяет лица, соединяя их только союзом συναφεία по достоинству, т. е. во власти и силе, а не, лучше, природным соединением καθ’ ἕνωσιν φυσικήν, — анафема» (III). «Кто изречения евангельских и апостольских книг… относит раздельно к двум лицам или ипостасям… — анафема» (IV).
Замечая, что свт. Кирилл порой смешивает термины «ипостась» и «природа» (за что получает обвинение от восточных в аполлинаризме), о. Сергий Булгаков пишет, что мысль о единстве Богочеловека святитель выражает отчетливо, хотя скорее «более волевым усилием, нежели догматическими достижениями» (Булгаков, 2000, 47).
Далее о. Сергий пишет, что святитель пошел на некоторые уступки восточным епископам в области терминологии в униональном исповедании 433 г., «где говорится, вместо „единого естества воплощенного Бога Слова“ и вместо „природного единения“, о соединении „двух естеств“, а о Христе как совершенном Боге и „совершенном человеке“» (Булгаков, 2000, 47–48). При этом о. Сергий делает оговорку, что впоследствии святитель снова возвращается к своему «излюбленному словоупотреблению», ссылаясь, в частности, на следующие его слова: «Мы сделали им (восточным) снисхождение не для того, чтобы они разделили одного Христа на двух (да не будет!), а чтобы только сознали, что не произошло ни слияния, ни смешения, но что плоть осталась плотью, как заимствована от жены, и Слово пребыло Словом, как родилось от Отца… И уже после того, как допущено было единение, соединенное больше не разделяется, а один уже Христос, и одно Его естество, именно как Слова воплощенного. Это исповедали восточные епископы, хотя выразили это темновато (!)» (Булгаков, 2000, 48; Кирилл Александрийский, 1892а, 160).
Далее о. Сергий пишет, что «религиозная самоочевидность единства Христа» для свт. Кирилла обусловлена, как и для свт. Григория Богослова, сотериологическим мотивом, и приводит следующую цитату: «Если бы прав был Несторий со своим разделением во Христе Бога и человека, то искупительные дела принадлежали бы человеку, и не имели бы спасительного значения. Мы не были бы искуплены страданием простого человека, и не была бы за нас пролита кровь Логоса, и не было бы принесено в жертву Его тело. Он умер за нас не как человек, будучи один из нас, но как Бог во плоти, отдавая собственное тело как выкуп за жизнь всех» (Булгаков, 2000, 48).
Далее о. Сергий отмечает, что ввиду «отсутствия ясной антропологии, а также недостаточного различения ипостаси и природы в Боге и человеке» (Булгаков, 2000, 48–49), основная мысль свт. Кирилла «о единении божеской и человеческой природы, нетварного и тварного начал» «не может стать ясной» и для его восточных оппонентов (Несторий, блж. Феодорит) выглядит «или как превращение Божества в плоть, — стало быть, с приведением его мысли к абсурду, или же как поглощение Божеством плоти, т. е. будущее евтихианство» (Булгаков, 2000, 49). В качестве возражения к первому тезису о. Сергий приводит следующие слова свт. Кирилла: «Слово соделалось человеком, не претерпевая превращения в то, чем было, ни изменения: потому что Оно всегда есть то же и неспособно терпеть и тени изменения. Но утверждаем, что не произошло никакого смешения, или слияния, или сращения Его естества с плотью, а говорим, что Слово соединено было с плотью непостижимо и неизреченно и как только само ведает» (Булгаков, 2000, 49; Кирилл Александрийский, 1892б, 15). На это о. Сергий замечает, что апелляция к всемогуществу Божию не удовлетворяет оппонентов свт. Кирилла, видящих по-прежнему смешение природ. В свою очередь свт. Кирилл продолжает настаивать, что «Слово соединилось с плотью ἀτρέπτως, ἀμεταβλήτως ἀσυγχύτως (неслиянно, неизменно, непреложно), причем не имело места ни κρᾶσις ἤ σύγχυσις ἤ φυρμὸς ἤ μεταβολὴ — ни срастворение, ни слияние, ни смешение, ни превращение» (Булгаков, 2000, 50; Кирилл Александрийский, 2010, 19), таким образом, предвосхищая халкидонскую формулу и показывая подлинную апофатическую природу догмата.
Обращаясь к аргументации свт. Кирилла, о. Сергий отмечает, что разъяснительное «сравнение боговоплощения с соединением души и тела в человеке», повторяемое святителем «неисчислимое количество раз», не только неприложимо, но и неверно, поскольку «соединение двух самостоятельных и совершенных природ не подобно соединению двух начал, которые только и могут существовать лишь в соединении и в этом смысле вовсе не являют собою двух природ» (Булгаков, 2000, 50). Здесь, как видно, — собственная оценка Булгакова, демонстрирующая при этом некоторое недопонимание назначения используемой аналогии. Последующая церковная мысль активно использует данную аналогию, очевидно, не для того чтобы полностью раскрыть образ соединения Божества и человечества во Христе, но для того, чтобы нагляднее показать неизреченный образ соединения в его действии. Подобно тому, как мы, не зная самого «как» соединены в нас душа и тело, однако ж видим проявление деятельности нашего «я» и душевно, и телесно, притом не поочередно, но синхронно, двуедино, каждое начало действует согласно со своей природой. Удивительно емкая аналогия, от которой о. Сергий, видимо, ожидает несколько другой функции, объяснения самой тайны Боговоплощения, самого «как» соединились два совершенных начала. Понятно, что для этого не годится никакая аналогия тварного мира.
Далее, указывая на то, что свт. Кирилл настаивает не только на ипостасном соединении (в смысле Нестория), но и на природном, о. Сергий приводит следующие слова святителя: «Естество Слова или ипостась (что означает самое Слово) поистине соединилось с естеством человеческим без всякого превращения или изменения… и есть истинный Христос-Бог и человек» (Булгаков, 2000, 50; Кирилл Александрийский, 1892в, 59). Это природное соединение, — продолжает о. Сергий, — вызывает у блж. Фео-дорита следующее недоразумение: «природа есть нечто, движимое необходимостью и лишенное свободы… Если таким образом произошло природное соединение… то Бог Слово вынужден был необходимостью, а не человеколюбием соединиться» (Булгаков, 2000, 50; Кирилл Александрийский, 1892в, 60). Свт. Кирилл на это отвечает, что «природное соединение, т. е. „истинное, непричастное превращение и совершенно неслиянное стечение ипостасей™ называется (так), чтобы не дать места неистинному, обитательному соединению“, но не отрицает того, что „Единородный истощил себя не без воли и добровольно соделался человеком“» (Булгаков, 2000, 50–51; Кирилл Александрийский, 1892в, 62). Здесь, как видно, недопонимание возникло из-за того, что оппоненты вкладывают в формулу «природное соединение» разные смыслы. Для блж. Феодорита эти слова говорят о том, что является основанием для воплощения, природная ли необходимость или добровольное нисхождение. Свт. Кирилл, разумеется, совершенно не об этом говорит, но доносит мысль особого, исключительного единства Бога и человека, которого никогда еще в истории не было — соединение природ, а не благодатное озарение; конечно, при этом у него и в мыслях нет отрицать добровольность Божественного истощания.
Все эти высказывания о. Сергий обобщает мыслью о том, что две природы до воплощения противопоставляются у свт. Кирилла единству по воплощении. «Однако и это единство не устраняет двойства природ, которые соединились неслиянно и несмешанно, так что „различие природ не устраняется чрез их единение“. Однако настаивает св. Κирилл, это двойство установляется только „в созерцании“ (в „теории“ θεωρίᾳ μόνη), но его не допускается „различать не в одном лишь созерцании“, (чему противоположно несторианское различение в самой действительности, как двух лиц)» (Булгаков, 2000, 51). Вот, собственно, та точка, с которой начинается явное расхождение о. Сергия со святыми отцами в оценке свт. Кирилла.
Данную мысль о. Сергий называет некой апорией, которую сам свт. Кирилл не осознает. Если нельзя допустить конкретной индивидуальной человеческой природы Христа после воплощения, другими словами, с человеческой ипостасью
(как у Нестория), потому что только ипостась дает конкретность, т. е. существование природе2, то как тогда можно говорить о полноте человеческой природы, ведь она никогда не существовала как человеческая природа в человеческой ипостаси, но сразу является в Божественной ипостаси Логоса? А Логос тогда, получается, воспринимает человеческую природу вообще, как нечто общее, для Булгакова это значит «в отвлеченном платоническом смысле», или как совокупность свойств, другими словами, не так полно, не так конкретно, как требуется с точки зрения естественного разума. Здесь начинается «уклон» свт. Кирилла к монофизитизму и докетизму: Божество как бы облекается в человечество как в одежду, человеческая природа сводится до уровня орудия Божества.
С другой стороны, антиохийское богословие с его движением к субъектному разделению Богочеловека о. Сергий находит более логичным и более ответственным. К примеру, приведем слова о. Сергия из сноски: «Поэтому он (свт. Кирилл. — и. Н. ) может говорить, например, о „нераздельном соединении вещей различных“. „Утверждаем, что два естества соединились, и верим, что после этого соединения, как бы уничтоживши разделяемость надвое, пребывает одно естество Сына, как единого, но вочело-вечившегося и воплотившегося“ (Кирилл Александрийский, 1892г, 156). Кто разрешит себе в своих рассуждениях свободу от логического закона противоречия, приобретает, конечно, большую гибкость в своих заключениях, однако, уже не может притязать на убедительность. Таково именно положение св. Кирилла в полемике с блж. Феодо-ритом. Еще пример из того же послания: „итак, если внимательно исследовать образ воплощения, то мысли человеческой представляется два начала, соединенные между собою совершенно неизреченно и неслиянно; впрочем, соединения их она никогда не разделяет, а допускает и признает приличным существование одного из того и другого, и Бога, и человека“ (Кирилл Александрийский, 1892г, 156). Этой «мысли» разумом реализовать нельзя, — заключает о. Сергий, — потому что она содержит «внутреннее противоречие, которое даже не прикрывается словами» (Булгаков, 2000, 55). Как видно, о. Сергий здесь не на стороне свт. Кирилла, логически более слабой в сравнении с антиохийским богословием.
В первую очередь необходимо сказать, что вся проблема данной оценки о. Сергия возникает вследствие иного понимания природы догматической истины , иного отношения, подхода к изучению догмата. Суть подхода о. Сергия как раз в критике, в критическом испытании догмата, пусть и еще на этапе его формулирования (полемика свв. Кирилла и Феодорита). Иначе сказать, в попытке продумать до конца, понять, «как» происходит Боговполощение, в желании дать догмату «реализацию в разуме». И в богословии свт. Кирилла о. Сергий ищет того, чего там нет и быть не может. Мы отчетливо увидели стремление о. Сергия продумать, помыслить человеческую природу Христа до, или, лучше, в самом моменте воплощения, помыслить ее как нечто самобытное; мы отметили его требование к аналогии единства души и тела полнейшего разъяснения самого таинственного образа соединения двух природ во Христе; и мы также отмечаем искреннее непонимание о. Сергием Булгаковым святоотеческого принципа апофатизма, который постулирует неизреченное и нераздельное соединение, что кажется о. Сергию не более чем нарушением логики.
Разумеется, во всем этом проступает философствующий разум, не чувствующий или в порыве собственной деятельности не замечающий границы между тварным, посильным для него, и нетварным и потому для него недоступным, отсюда выходит имплицитное как бы требование имманентности, или, иначе, аналогичности в данном случае, законов мышления и природы Богооткровенной истины. Отсюда такое стремление додумывать, логически продлевать мысль свт. Кирилла, которая зиждется на иной предпосылке, на предпосылке сотериологической , не особенно считающейся с требованием «реализации в разуме» и потому все время уходящей в апофатику, т. е.
в противоречие, в логический запрет мышления (две природы по воплощении — нераздельны и неслиянны), который, однако, открывает сферу религиозного созерцания. В связи с чем прот. Г. Флоровский пишет, что известная нечеткость богословской терминологии свт. Кирилла не мешает ясному донесению мысли, потому что «для него слова всегда только средства», он призывает «через слова и сквозь слова» взойти к созерцанию [Флоровский, 1992, 70], иначе говоря, удостовериться в истинности догмата через веру, очами веры, неким духовным сопричастием Божественной реальности. С этой характеристикой богословия свт. Кирилла соглашается и проф. А. Сидоров, ссылаясь на собственные слова святителя: «Не останется без наказания тщательное исследование того, что нам не под силу; и совершенно безумно — подвергать испытанию то, что мы не способны понять. Или ты не знаешь, что именно это глубокое и превосходящее наш разум таинство почитается безыскусной верой?» [Сидоров, 2013, 429; Кирилл Александрийский, 2005–2006, 113–114]. Это совершенно иной способ опознания истины, нежели предполагает научный метод как таковой, в том числе и историко-критический. На это указывал и Э. Трёльч, находя при этом в догматическом методе некий уход от историчности, однако на деле выходит, что именно историко-критический метод, — приписывающий мысли свт. Кирилла больше, чем в ней есть, предъявляющий к ней некие требования (разъяснения Тайны), которые она не стремилась удовлетворить, и на основании этого бросающий некоторую тень на фигуру святителя, тогда как Святая Церковь прославляет его за труды, — уклоняется от объективного принятия фактов истории.
И действительно, если взглянуть на все приведенные выше слова свт. Кирилла (мы специально привели все цитаты, на которые ссылается о. Сергий до того, как подводит к мысли о неполноте человеческой природы во Христе) без указанной тенденции, без логического додумывания, в них отчетливо прочитывается мысль о том, что Боговоплощение — это исключительный акт соединения двух природ, не оставляющий после себя хотя бы момента разделения, с другой стороны, речь не идет о смешении и превращении одного в другое. И точно так же мы нигде не видим намеренного, подчеркнутого акцента на умаление человеческого естества Христа. В частности, в одном из ранних произведений свт. Кирилла, «Диалоге о вочеловечении Единородного» (ок. 428), находим следующие слова: «Единородный для того стал таким, как мы, то есть совершенным человеком, чтобы, с одной стороны, избавить земляное наше тело от прившедшего в него тления, через домостроительство по единению снизойдя в такую же по закону жизнь, а с другой стороны, сделав собственной человеческую душу, явить ее сильнее греха, окрасив ее, словно бы некоей краской, крепостью и неизменностью Своей собственной природы» (Кирилл Александрийский, 2005–2006, 109). Чуть дальше снова читаем: «Слово соединилось с человеком, как полное с полным. Потому что никак не может быть того, чтобы лучшее в нас, то есть душу, Он не удостоил никакой заботы, одаривая одну лишь плоть трудами жительства с нами. Но таинство домостроительства счастливо устроено через обе эти [части человека]. Он воспользовался, словно бы неким орудием, с одной стороны, собственной плотью, ради плотских трудов и немощей — естественных и настолько далеких от порицания; а с другой стороны собственной душой, ради человеческих и неукоризненных страстей» (Кирилл Александрийский, 2005–2006, 111). Здесь, как видно, орудийное значение человеческого естества, которое смущает прот. Сергия Булгакова, намеренно подчеркивается свт. Кириллом, но, с другой стороны, подчеркивается и полнота как телесной жизни Богочеловека, так и душевной жизни. Более того, святитель настаивает на том, что после крестной смерти Божественное Слово нисходит в ад именно облеченное в человеческую душу. «Как с теми, кто еще был с плотью, Он общался вместе с плотью, таким же образом Он проповедал и душам в аду, имея, как Свое собственное одеяние, соединенную с Ним душу» (Кирилл Александрийский, 2005–2006, 113).
В знаменитом «Втором послании к Несторию» свт. Кирилл пишет: «Слово, соединив с собою в единстве лица (καθ’ ὑπόστασιν) тело, одушевленное разумною душою
(σάρκα ἐψυχωμένην ψυχῇ λογικῇ), неизреченно и непостижимо для нашего ума, стало человеком. <…> Это мы представляем не так, что в этом соединении уничтожилось различие естеств, но божество и человечество при неизреченном и неизъяснимом соединении пребыли совершенными, являя нам единого Господа Иисуса Христа и Сына» (Кирилл Александрийский, 1910, 145).
Несколько позже в «Двух посланиях к Суккенсу, еп. Диокесарийскому» (433) свт. Кирилл пишет: «соединяя Слово от Бога Отца со святой плотью, имеющей разумную душу, неизреченно и выше разумения, неслитно, неизменно, непреложно, тем самым мы исповедуем, что есть один Христос, Сын и Господь, Тот же Самый Бог и человек, — не иной и иной, но Один и Тот же Самый, Который и существует, и мыслится как то и другое» (Кирилл Александрийский, 2010, 19).
Очевидно, что главная мысль приведенных слов — это утверждение единственности субъекта, ипостаси воплощения, Божественной ипостаси. И совершенно ясно в данном утверждении прочитывается исключительно сотериологическое требование. Как показывает прот. О. Давыденков, именно сотериология требует отсутствия человеческой ипостаси во Христе, и отсюда соединения Бога Слова с человеческой природой как таковой, всецелой, т. е. в родовом смысле этого слова, без конкретной человеческой ипостаси [Давыденков, 2007, 261–263], что для прот. Сергия Булгакова означает «в платоническом смысле» или в смысле «совокупности свойств», т. е. в каком-то урезанном, неполноценном смысле, по причине, как было показано, исключительной невозможности рационально помыслить природу без ипостаси, чтобы не вдаваться в мысль об умалении.
Для свт. Кирилла Александрийского важно показать подлинную приобщенность, родственность Бога Слова всем нам по природе, благодаря чему всякий может получить от Него дары освящения. «„Логос посредством одного обитал во всех“ (εν πάσι… Xoyog Есткгуыос 8i’ Evog) и „имеет всех нас в Себе“ (qqag ex°v EVEauTto)», — пишет свт. Кирилл (цит. по: [Давыденков, 2007, 262]). В связи с чем ни о какой человеческой ипостаси не может идти речи, поскольку только Божественная ипостась, «свободная от ограничений тварной природы» [Мейендорф, 2000, 84], не индивидуализирует, не дробит человеческую природу, но воссоединяет и наполняет Божественными энергиями, восстанавливая тем самым первоначальный замысел о человеке [Давыденков, 2007, 263-267; Болотов, 1918, 294-295], и потому включает, подразумевает и ожидает добровольного включения в Себя всех нас.
В дальнейшем прп. Максим Исповедник несколько по-иному оттеняет эту же самую мысль. О тех, кто приписывает Христу гномическую волю, отражающую момент выбора, колебания или внутреннего совещания в человеке и связанную с ипостасным существованием, прп. Максим пишет: «считают Его простым человеком, обладающим волей, подобной нашей, незнающим, колеблющимся и находящимся в противоречии с Самим Собой. <…> В человеческой природе Господа, которая обладала не простой, а божественной ипостасью… не может быть никакой γνώμη» (Disp. Pyr.: PG 91, 308; Мейендорф, 2000, 168). Преподобный Иоанн Дамаскин пишет: «Божественное Слово соединилось не с такою плотью, которая прежде сама по себе существовала, но, вселившись в утробе Святой Девы, Оно в Своей Ипостаси неописуемо (ἀπεριγράπτως) восприняло Себе от чистых кровей Приснодевы плоть, одушевленную душою, одаренную и разумом (λογικῇ), и умом (νοερᾷ), взяв Себе начатки человеческого смешения, Само Слово сделалось для плоти Ипостасью» (Иоанн Дамаскин, 2003, 148; De fide orth.: PG 94, 985C). Таким образом, для святых отцов утверждение единственности Божественной ипостаси (без человеческой) во Христе является необходимым сотерио-логическим условием, с другой стороны, корректность и непротиворечивость мысли связана с пониманием ипостаси как реальности, отличной от природы. Единственно правильный путь к этой мысли, может, даже и не вполне осознанно, пролагает своим богословием именно свт. Кирилл Александрийский. IV Вселенский Собор уже отчетливо фиксирует эту мысль («соединением нисколько не нарушается различие двух естеств, но тем более сохраняется свойство каждого естества и соединяется в одно лицо и одну ипостась»), которая получает разъяснение в дальнейшей христологии Леонтия Иерусалимского и последующих святых отцов [Мейендорф, 2000, 86–89]. Именно этого строгого разведения ипостаси и природы не хватает о. Сергию для того, чтобы понять, что отсутствие человеческой ипостаси во Христе не лишает Его человеческую природу полноты.
С другой стороны, отсутствие действительного монофизитского уклона в хри-стологии свт. Кирилла подтверждается его дальнейшими словами относительно тела Христова, которое и после воскресения сохраняет свою телесную природу и не изменяется в Божество. «После воскресения то самое тело, которое претерпело страдание, более не имело в себе человеческих немощей. <…> Однако недопустимо, чтобы претерпело изменение (μεταβολήν) в Божественную природу тело от земли» (Кирилл Александрийский, 2010, 23). Слова святителя: «Перенес Он и крест, чтобы, претерпев смерть плотью — плотью, а не природой Божества, — стать первенцем из мертвых, проложить путь человеческой природе к нетлению», — явственно показывают, что целью искупительных страданий является освящение человеческой природы, следовательно, она во всей полноте должна присутствовать и должна быть реализована во Христе.
Отсюда следует, что совсем не тексты свт. Кирилла Александрийского дают повод о. Сергию Булгакову для критической оценки, но скорее та протестантская тенденция, которая рассматривает их в отрыве от церковного Предания, и рационалистический подход к христологическому догмату, который сам по себе не исключено что исходит от той же самой западно-протестантской мысли, предъявляющей догмату запрос на полное реалистическое, наглядное и логическое разъяснение Божественной тайны, тогда как на деле христологический догмат есть только свидетельство совершившегося в истории чудесного события, и какова природа этого события, такова и природа догмата.
Примечательно, что на протяжении своего историко-богословского очерка прот. Сергий Булгаков, активно опираясь на оценку западных историков догмы, при этом не рассматривает всерьез оценку и рецепцию мысли александрийского святителя в последующем святоотеческом богословии, что подтверждает вышесказанное. Тогда как известно, что богословие и авторитет свт. Кирилла Александрийского были основополагающими для отцов IV Вселенского Собора, его авторитет, по замечанию проф. В. В. Болотова, был даже выше, чем авторитет Римского папы Льва. Так, по прочтении послания папы Льва большинство епископов воскликнуло: «Петр говорит устами Льва, Кирилл так учил!» Однако иллирийские и палестинские епископы засомневались в правильности некоторых мест послания, вследствие чего митр. Аттик Никопольский предложил сравнить прочитанное послание свт. Льва Великого с посланиями свт. Кирилла [Болотов, 1918, 288].
Разбирая христологию Леонтия Иерусалимского, протопр. Иоанн Мейендорф приходит к выводу, что Леонтий вполне продолжает мысль свт. Кирилла [Мейендорф, 2000, 86-89]. Разумеется, к этому времени (VI в.) многое уже было сделано, ключевые понятия получили свое разъяснение, был введен термин «воипостасный» (EvunoOTaTog), предназначенный для указания на природу, существующую не в собственной ипостаси, но получившую свое существование в другой ипостаси (см.: [Да-выденков, 2018, 23]). Однако и этот термин направлен на выражение той же самой мысли, которую защищал свт. Кирилл, что во Христе нет никакой иной ипостаси, кроме предвечной ипостаси Бога Слова. «Человечество Спасителя не существовало в своей собственной ипостаси (ἰδιαζούσῃ ὑποστῆναι), но с самого начала существует в Ипостаси Логоса (Ev тц той Л6You ипоотаоы vфEaтnкEval)», — пишет Леонтий Иерусалимский (цит. по: [Давыденков, 2012, 29]).
Далее, сочинения свт. Кирилла были главными христологическими маяками для отцов V Вселенского Собора: в обсуждении богословия Феодора Мопсуестийского и некоторых мест из сочинений блж. Феодорита Кирского они разбираются и критикуются отцами собора как не соответствующие учению свт. Кирилла (см. подр.: [Пономарев, 1908, 435–437]). Свой взгляд на богословие свт. Кирилла, выраженный в его знаменитой фразе «единая природа Бога Слова воплощенная», отцы Собора высказали следующим образом (8-й анафематизм): «Если кто… говоря о едином естестве Бога Слова воплощенном, понимает это не так, как учили святые отцы, что из Божественного и человеческого естества, чрез соединение по ипостаси, совершился единый Христос; но на основании таких выражений старается ввести одно естество или существо (φύσιν ἤτοι οὐσίαν) божества и плоти Христа: тот да будет анафема. <…> Напротив мыслим, что Слово соединилось с плотию так, что то и другое (естество) остается тем, что оно есть. Посему и един есть Христос, Бог и человек, Он же самый единосущный Отцу по божеству, и единосущный нам по человечеству: ибо Церковь Божия отвергает и анафематствует равно и разделяющих на части или рассекающих, и сливающих тайну Божественного домостроительства Христа» [Асмус, 2005, 625]. Таким образом, словами отцов Собора святая Церковь пояснила, как нужно понимать эти слова свт. Кирилла Александрийского, а вместе и все его богословие: в свете «соединения по ипостаси», — снимая таким образом любое подозрение в монофизитстве.
Преподобный Иоанн Дамаскин в своем сочинении «Точное изложение православной веры» посвящает целую главу знаменитой формуле свт. Кирилла. С одной стороны, указывает на чрезвычайную емкость и точность слова «воплощенное», содержащего в себе мысль об исключительной по силе связи природ, ибо «иное есть соединение и другое — воплощение» (Иоанн Дамаскин, 2003, 167). С другой стороны, вновь заостряет мысль о полноте человеческого естества, приводя собственные слова свт. Кирилла из послания к еп. Суккенсу. «Если бы, — пишет свт. Кирилл, — сказав об едином естестве Слова, мы умолкли, не прибавив слова воплощенном , но как бы вне полагая воплощение, то, может быть, конечно, и не была бы неправдоподобной речь и тех, которые притворено спрашивают: если все — единое естество, то где совершенство в человечестве? Или каким образом существует равная нашей сущность? А после того как через слово: воплощенное введено и совершенство в человечестве, и указание на сущность, равную нашей, то да перестанут опираться на тростниковый жезл» (Иоанн Дамаскин, 2003, 167–168; Кирилл Александрийский, 2010, 28). Таким образом, когда употребляется слово «воплощение», то речь не может идти о частичном или каком-то неполном воплощении, под этим словом понимается вся полнота человеческой природы.
Как видно, святоотеческая мысль совершенно осознанно поддерживает, уточняет (на уровне терминологии, а не смысла) и продолжает мысль свт. Кирилла о Божественной ипостаси Бога Слова во Христе, которая соединяет в себе совершенное Божество и совершенное человечество. Основополагающим мотивом для этого учения становится евангельская сотериология, исходящая из слов «Слово стало плотию» (Ин 1:14). При этом Церковь не стремится объяснить все, и утверждение, что человеческая природа не существовала сама по себе в человеческой ипостаси до воплощения, является своего рода заграждением уст, призванным хранить неизреченность Божественной тайны, проводящим здравую границу познаваемого и непознаваемого для человеческого разума.
Вывод: Подводя итог, отметим в первую очередь следующее: историко-богословский метод прот. Сергия Булгакова действительно весьма близок к тому, что на Западе получило название исторической критики или историко-критического метода. На примере христологии свт. Кирилла Александрийского мы увидели, что о. Сергий действительно стремится изложить богословскую мысль святителя в ее исторической связи, в историческом контексте полемики с несторианствующим богословием, интересны его замечания относительно гибкости терминологии святителя (Антиохийское согласие). Однако при этом отчетливо прослеживается некоторая критическая тенденция видеть в александрийской мысли самой по себе склонность к монизму и, как следствие, к умалению человеческого естества во Христе — свт. Афанасий Великий, Аполлинарий, свт. Кирилл Александрийский, монофизиты. И здесь о. Сергий уже не выдерживает полной беспристрастности, симпатизируя больше несториан-ствующим богословам, опираясь больше на оценку протестантских исследователей, чем на святоотеческую мысль. Таким образом, на уровне интерпретации и оценки о. Сергий расходится с традиционной церковной христологией, которая понимает богословие свт. Кирилла в православном ключе (V Вселенский Собор).
В качестве главной причины данного столкновения интерпретаций мы отмечаем несколько своеобразное понимание о. Сергием природы догматической истины, которое проявляется в следующих моментах. Необычным для традиционной христологии является вопрошание об образе бытия человеческой природы до воплощения, поднимающее чисто философскую проблему соотношения частей и целого: является ли целое простым конструктом частей, или целое больше совокупности своих частей? Является ли ипостась частью природы, или она есть нечто иное? И последующее церковное решение этой проблемы, и явная тенденция к нему мысли свт. Кирилла не влияют на самостоятельный поиск исследовательского разума о. Сергия. Здесь же нужно отметить и отвержение святоотеческой аналогии души и тела в человеке для иллюстрации единства двух природ во Христе как не удовлетворяющей требованию объяснить сам таинственный образ соединения. Также имеет место некоторое недопонимание апофа-тичности догмата (неслитно, неизменно, неразлучно, нераздельно), требование от него логичности и непротиворечивости. Все это отчетливо показывает некоторый рационалистический уклон в понимании о. Сергием природы догмата.
Этот уклон позволяет провести некоторую параллель с теми принципами, которые выделил Э. Трёльч для историко-критического метода, главным образом с принципами аналогии и однородности . Аналогия, приложенная к истории догматов, требует, чтобы догматическая истина объяснялась на основании логических законов. Принцип однородности требует, чтобы в связности богословской мысли также не было логических разрывов, необъяснимых апорий, тайн и в конечном итоге всего чудесного. Как видно, изначальной основой данных принципов является секуляризованное и, как предел, можно даже сказать антирелигиозное понимание истории.
Другими словами, историко-критическая методология, выходя на уровень интерпретации текстов, сталкивается с проблемой критерия этой интерпретации, в роли которого может выступать либо православная традиция, основанная на евангельско-историческом факте существования Христа, либо естественно-рациональное объяснение, выступающее, как правило, под маркой научности. Однако, следует заметить, последний критерий, замкнувшись сам на себе, рискует исказить исторический факт, коль скоро он действительно окажется чудесным и вышеестественным.
Разумеется, о. Сергий Булгаков не отрицает боговдохновенности Писания и соборных определений Церкви, но когда речь заходит о предсоборных догматических спорах, то мысль исследователя предъявляет догмату некоторые рациональные требования, как бы стремясь отследить генезис отдельных догматических положений, логику их появления, теряя из виду, что догмат (формула) рождается не от логических требований, а из факта Откровения , который целиком удовлетворяет только соте-риологическому требованию , поскольку все Священное Писание это история спасения человека.
Таким образом, проблема историко-критического метода о. Сергия Булгакова заключается в том, что, с одной стороны, он не может быть полностью привязан к той откровенно секуляризованной исторической аксиоматике, которая зреет в либерально-протестантской науке, с другой стороны, очевидный рационалистический уклон не позволяет ему встать на позиции православного догматического метода, суть которого в доверии (Св. Писанию, Соборам, свв. отцам), в желании услышать само Откровение без привнесения в него собственных требований. Критическое стремление переосмыслить и переоценить святоотеческую мысль открывает возможность не соглашаться с некоторыми основополагающими элементами православной христологии, и как следствие, предлагать нечто свое. Святоотеческая мысль, напротив, уделяя должное значение таинственной природе догматический истины, от этого яснее осознает границы человеческих познавательных возможностей, и как следствие, не стремится к полнейшему раскрытию и объяснению догмата.
Список литературы Проблема историко-критической методологии в догматическом богословии прот. Сергия Булгакова
- Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М., 2004.
- Анастасий Синаит (2003) — Анастасий Синаит, прп. Избранные творения. М., 2003.
- Булгаков (1933) — Булгаков С., прот. Агнец Божий. О Богочеловечестве. Париж: YMCA-Press, 1933. Ч. I.
- Булгаков (2000) — Булгаков С., прот. Агнец Божий. О Богочеловечестве. М., 2000. Ч. I.
- Григорий Нисский (1868) — Григорий Нисский, свт. Опровержение мнений Аполлинария (антирритик) // Григорий Нисский, свт. Творения. М., 1868. С. 59-201.
- Иоанн Дамаскин (2003) — Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры. М., 2003.
- Кирилл Александрийский (1892а) — Кирилл Александрийский, свт. Памятная записка пресвитеру Евлогию, находящемуся в Константинополе // Деяния Вселенских Соборов. Казань, 1892. Т. 2. С. 159-161.
- Кирилл Александрийский (1892б) — Кирилл Александрийский, свт. Изъяснение двенадцати глав, изложенное в Ефесе Кириллом, архиепископом александрийским, когда святый собор потребовал яснейшего изложения их // Деяния Вселенских Соборов. Казань, 1892. Т. 2. С. 14-22.
- Кирилл Александрийский (1892в) — Кирилл Александрийский, свт. Кирилла, архиепископа александрийского, 12 глав против тех, которые дерзают защищать мнения Нестория, как правые // Деяния Вселенских Соборов. Казань, 1892. Т. 2. С. 55-81.
- Кирилл Александрийский (1892г) — Кирилл Александрийский, свт. Послание Кирилла к Акакию, епископу Мелитены, упрекавшему его посланием в том, что он согласился с восточными // Деяния Вселенских Соборов. Казань, 1892. Т. 2. С. 151-159.
- Кирилл Александрийский (1910) — Кирилл Александрийский, свт. Благоговейней-шему и боголюбивейшему сослужителю Несторию Кирилл о Господе (желает) всякого блага // Деяния Вселенских Соборов. Казань, 1910. Т. 1. С. 144-147.
- Кирилл Александрийский (2005-2006) — Кирилл Александрийский, свт. Диалог о вочеловечении Единородного // Богословский вестник. 2005-2006. Т. 5-6. № 5/6. С. 65-150.
- Кирилл Александрийский (2010) — Кирилл Александрийский, свт. Два послания к Суккенсу, епископу Диокесарийскому // Богословский вестник. 2010. № 10. С. 17-31.
- Асмус (2005) — Асмус В., прот. Вселенский V Собор // Православная энциклопедия. М., 2005. Т. 9. С. 616-628.
- Болотов (1907) — Болотов В.В., проф. Лекции по истории древней церкви. Т. 1: Введение в церковную историю. СПб., 1907.
- Болотов (1918) — Болотов В.В., проф. Лекции по истории древней церкви. Т. 4: История церкви в период вселенских соборов. СПб., 1918.
- Гранак (2001) — Гарнак А. История догматов // Раннее христианство. М., 2001. Т. 2.
- Давыденков (2007) — Давыденков О., прот. Христологическая система Севира Антиохийского: догматический анализ. М., 2007.
- Давыденков (2012) — Давыденков О., прот. Вопрос о тождестве ипостаси Христа и ипостаси предвечного Логоса в православной христологии "У!-К вв. // Вестник ПСТГУ. Сер. I: Богословие. Философия. 2012. Вып. 4 (42). С. 22-35.
- Давыденков (2018) — Давыденков О., прот. Понятие «воипостасное» в дифизитской христологии после Леонтия Византийского // Христианское чтение. 2018. № 1. С. 21-32.
- Катанский (1871) — Катанский А. Л. Об историческом изложении догматов // Христианское чтение. СПб., 1871. № 5. С. 791-843.
- Лаврентьев (2012) — Лаврентьев А.В. Историзм и историко-критический метод в теологии В. Панненберга // Вестник ПСТГУ. Сер. I: Богословие. Философия. 2012. Вып. 3 (41). С. 7-18.
- Мейендорф (2000) — Мейендорф И., протопр. Иисус Христос в восточном православном богословии. М., 2000.
- Неклюдов и др. (2006) — Неклюдов К. В., Пономарёв А. В., Ткаченко А. А. Герменевтика библейская // Православная энциклопедия. М., 2006. Т. 11. С. 360-390.
- Пеликан (2007) — Пеликан Я. Христианская традиция. История развития вероучения. М., 2007. Т. 1.
- Пономарев (1908) — Пономарев П.П. Священное Предание как источник христианского ведения. Казань, 1908.
- Поппер (1983) — Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983.
- Сидоров (2013) — Сидоров А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности. М., 2013.
- Сильвестр Малеванский (1863) — Сильвестр (Малеванский), архим. Краткий исторический очерк рационализма в его отношении к вере // Труды Киевской духовной академии. 1863. № 12. С. 471-472.
- Трёльч (2009) — Трёльч Э. Об историческом и догматическом методе в богословии // Сравнительное богословие: немецкий протестантизм XX в. М., 2009. С. 21-45.
- Федотов (1998) — Федотов Г.П. Православие и историческая критика // Федотов Г.П. Собрание сочинений: в 12 т. М., 1998. Т. 2. С. 219-231.
- Флоровский (1992) — Флоровский Г., прот. Восточные отцы V-VIII веков. М., 1992.
- Флоровский (2002) — Флоровский Г., прот. Смысл истории и смысл жизни // Вера и культура. СПб., 2002. С. 61-83.
- Baur (1853) — Baur F. Das Christenthum und die Christliche Kirche der Drei Ersten Jahrhunderte. Tübingen, 1853.
- Dorner (1853) — Dorner. Entwicklungsgeschichte der Lehre von d. Person Christi: von den ältesten Zeiten bis auf die neueste. Berlin, 1853.
- Handbook (2001) — Handbook of biblical criticism. London; Leiden, 2001.
- Harnack (1905) — Harnack. Dogmengeschichte. Tübingen, 1905.
- Jugie (1912) — Jugie M. Nestorius et la controverse nestorienne. Paris, 1912.
- Loofs (1887) — Loofs. Leontius von Byzanz und die gleichnamigen Schriftsteller der griechischen Kirche. Leipzig, 1887.
- Maier (1977) — Maier G. The End of the Historical-Critical Method. Concordia Publishing House, 1977.