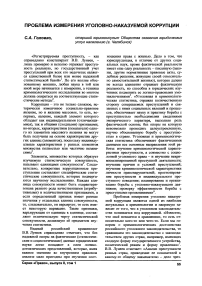Проблема измерения уголовно-наказуемой коррупции
Автор: Головко С.А.
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Проблемы и вопросы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики
Статья в выпуске: 13 (68) т.1, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/147149079
IDR: 147149079
Текст обзорной статьи Проблема измерения уголовно-наказуемой коррупции
С.А. Головко, старший юрисконсульт Общества оказания юридических услуг населению (г. Челябинск)
«Регистрируемая преступность, - как справедливо констатирует В.В. Лунеев, -лишь примерно и неполно отражает преступность реальную, но государственный учет преступлений при всех его недочетах является единственной более или менее надежной статистической базой»1. По его вполне обоснованному мнению, любая наука в той или иной мере начинается с измерения, а техника криминологического исследования во многом должна опираться на соответствующие статистические методы2.
Коррупция - это не только сложное, исторически изменчивое социально-правовое явление, но и явление массовое, то есть, во-первых, явление, каждый элемент которого обладает как индивидуальными (отличающимися), так и общими (сходными) признаками, во-вторых, характеристики (показатели) одного из элементов массового явления не могут быть получены на основе характеристик других единиц (элементов), поскольку индивидуальные характеристики у разных элементов множества полностью или частично независимы3.
Элементы, множество которых образует изучаемую статистическую совокупность, называют единицами совокупности4. Следовательно, конкретные коррупционные преступления составляют специфические статистические совокупности, которые подвергаются научному исследованию. Каждая единица совокупности может быть охарактеризована разного рода качественными (атрибутивными) и количественными признаками, а если определенный признак имеет разные значения у отдельных единиц совокупности, то, следовательно, он варьирует, то есть имеет некоторую вариацию. Такие признаки, варьирующие от единицы к единице, составляют отличительную черту статистической совокупности, делающую её предметом изучения статистики.
Видный российский криминолог В.В. Лунеев справедливо отмечает, что без надежной опоры на фактические (статистические и социологические) данные юридические науки легко попадают в плен логикодогматических представлений, которые, имея важное значение во внутреннем правовом анализе мало пригодны при изучении соот ношения права с жизнью. Дело в том, что юриспруденция, в отличие от других социальных наук, кроме фактической реальности имеет еще одну реальность - писанную (законы, другие нормативные правовые акты, судебные решения, живущие своей относительно самостоятельной жизнью), которая далеко не всегда адекватно отражает фактическую реальность, но способна в юридических изучениях подменить ее логико-правовыми умозаключениями5. «Уголовная и криминологическая статистика, отражая количественную сторону совершаемых преступлений и связанных с ними социальных явлений и процессов, обеспечивает науку и практику борьбы с преступностью необходимыми сведениями эмпирического характера, выполняя роль фактической основы, без опоры на которую невозможно проводить целеустремленную, научно обоснованную борьбу с преступностью в стране. Уголовная и криминологическая статистика обеспечивает фактическими данными все основные направления этой работы: изучение криминологической характеристики преступности, а совместно с социологией уголовного права - и изучение некри-минализированной преступной деятельности; изучение причин и условий преступлений; изучение криминологической характеристики личности правонарушителей; прогнозирование преступности и индивидуального преступного поведения; планирование и организацию борьбы с уголовно-наказуемыми деяниями; проверку эффективности борьбы с преступными проявлениями»6.
Проблема измерения уголовно наказуемой коррупции является одной из наиболее актуальных в криминологии и напрямую зависит от того, что в уголовном законодательстве понимается под коррупцией. «Известно, что «всё познается в сравнении», то есть относительно кого-то или чего-то. Если мы говорим о криминологических достоинствах российского уголовного законодательства, то сравниваем это законодательство с законодательством других стран, например, имеющих сходную форму государственного устройства, политический режим и форму правления»7. В.В. Лунеев отмечает: «Анализ преступности разных стран, приведение ее показателей к какому-то общему знаменателю - дело чрез- вычайно трудное. Далеко не всегда удается соблюсти главное требование статистических исследований - сопоставимость показателей. Даже при анализе преступности в республиках, входивших в бывший СССР, где действовали единые основы уголовного законодательства, схожие уголовные кодексы, относительно одинаковые требования к следственной и судебной практике, единые статистические документы первичного учета преступлений, где проводилась более или менее целостная уголовная политика и было практически неразрывное пространство правовой науки и юридического обучения, где существовали одни и те же политические, экономические и социальные институты, сравнительные криминологические исследования не всегда были сопоставимы, а устанавливаемые различия даже труднообъяснимы, поэтому одним из условий является обязательное дополнение количественных показателей качественным криминологическим и уголовно-правовым анализом»8. Дело в том, что официальная статистическая отчетность учитывает только те деяния, которые отнесены к конкретным видам преступлений. В настоящее время в УК РФ специально не выделяется блок коррупционной преступности, отсутствует само определение коррупции. Такие преступления можно выделить только теоретически, объединив отдельные составы преступлений и просуммировав число таких зарегистрированных преступлений за определенный период времени. Так, по мнению некоторых специалистов, «коррупция - не самостоятельный состав преступления, а скорее образ жизни, поведения человека»9. Действительно, с уголовно-правовой и криминологической точки зрения коррупция в нашей стране сегодня представляет собой не отдельный состав преступления, а группу самостоятельных составов преступлений, которые специалисты в области уголовного права и криминологии относят к коррупционным.
В 2003 году была принята специальная Конвенция ООН против коррупции10, а, как известно, в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью её правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. В ч. 1 ст. 15 Конституции Российской Федерации закреплено, что Конституция Российской Федерации имеет высшую юридиче скую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации не должны противоречить Конституции Российской Федерации. Следовательно, в УК РФ целесообразно либо выделение блока коррупционных преступлений, либо включение в Общую часть УК РФ определения коррупции и перечня коррупционных преступлений, что обеспечит единый статистический учет коррупционной преступности в нашей стране.
«Криминологию, как науку, изучающую преступность, ее тенденции, закономерности, пространственное и временное распределение преступности и её структурных составляющих, факторы предупреждения и т.д., прежде всего, интересует устойчивость уголовного законодательства и единство статистической базы»11. Между тем, в различных международных правовых документах, направленных на противодействие коррупции, речь идет не только об уголовно наказуемой коррупции, но и о коррупции как о широком социальноправовом явлении, что отчасти подтверждает вышеприведенное мнение Ю. Демина о коррупции, как «образе жизни и поведения человека». В частотности, в Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, принятой 9 сентября 1999 года, закреплено: «Каждая сторона предусматривает в своем внутреннем праве эффективные средства правовой защиты для лиц, понесших ущерб в результате актов коррупции, позволяющие им защищать свои права и интересы, включая возможность получения компенсации за ущерб (статья 1). Такое возмещение может охватывать нанесенный материальный ущерб, ценную финансовую выгоду и нематериальный вред (ч.2 ст.З)»12.
Масштабы коррупции определить довольно трудно. Это связано, прежде всего, с тем, что она (как и другие виды теневой экономической деятельности) в принципе укрыта от официального статистического учета. «Поскольку у государственных чиновников больше возможностей скрыть свои правонарушения, чем у рядовых граждан, то коррупция отражена в криминальной статистике слабее многих других видов преступлений. Кроме того, многие виды коррупции даже не связаны прямо с выплатой денежных вознаграждений, а потому не могут получить стоимостную оценку. Чтобы получить сравнительные данные о степени развития коррупции в разных странах, чаще всего используют социологические опросы и экспертные оценки»13.
Очевидно, что деяния внешне похожие на коррупционные, близкие к ним, по сути, могут не являться уголовно-наказуемыми по различным причинам. За отдельные коррупционные деяния может устанавливаться не уголовная, а административная или гражданско-правовая ответственность. Общественное мнение и социологические опросы его выявляющие, могут по различным причинам заметно расширять то явление, которое в общем можно обозначить термином «коррупция», но уголовно-наказуемая коррупция, об измерении которой мы ведем речь, должна оставаться ясно диагностируемой и измеримой. В противном случае в погоне за результатами можно перешагнуть за грань демократических принципов. «Проблема беспрецедентного разрастания масштабов коррупции, - по мне-■ нию И.Н.Коновалова и М.П.Петрова, — представляет собой серьезную угрозу функционированию публичной власти, верховенству закона, демократии и правам человека, затрудняет экономическое развитие страны. По уровню коррумпированности Россия находится в числе государств, в которых это явление получило наибольшее развитие... Массовый характер приобрели факты незаконного выделения, использования льготных кредитов, перелива капиталов в теневую экономику и зарубежные банки, отмывания денег, полученных преступным путем. Эти действия неизбежно сопровождаются разного рода корыстными злоупотреблениями должностными полномочиями, значительными суммами взяток. Колоссальные возможности страны в развитии экономики блокируются громоздким, неповоротливым, неэффективным государственным аппаратом. Его нынешняя организация способствует коррупции, поскольку любые административные барьеры преодолеваются взятками. И чем выше барьер, тем больше взяток и чиновников, их берущих»14.
Подобные утверждения, конечно, не лишены оснований, но все познается в сравнении, а сравнения, проводимые по различным социологическим методикам, часто являются все-таки предвзятыми (чаще неумышленно). Вряд ли следует безоговорочно доверять различным международным организациям, измеряющим уровень коррупции в различных странах по своим методикам. Так, в настоящее время широкое распространение получили различные индексы коррупции. Чтобы получить сопоставимые данные об уровне коррупции в разных странах обычно используют экспертные оценки и социологические опросы, на базе которых получают репрезентативные индексы, в частности - индекс воспри- Серия «Право», выпуск 8, том 1
ятия коррупции (corruption perceptions index -CPI) и индекс взяткодателей (bribe payers index - BPI), рассчитываемые международной организацией «Transparency international» («Международная прозрачность»). Кроме того, для международных сравнений уровня коррупции используют барометр мировой коррупции (global corruption barometer), индекс экономической свободы (index of economic freedom), индекс непрозрачности (opacity index). Например, в 1999 году индекс восприятия коррупции, показывающий склонность чиновников разных стран брать взятки, в Российской Федерации составлял 2,4, а в 2003 году 2,8 балла (положение улучшилось на 0,4 по сравнению с 1999 годом), что говорит о высоком уровне коррупции в нашей стране, но при этом некоторых положительных тенденциях. Данный индекс рассчитывается от 0 до 10 баллов с обратной ценностью -чем больше индекс, тем ниже уровень коррупции (максимальный уровень коррупции соответствует нулю - «минимальная прозрачность», а минимальный десяти - «максимальная прозрачность»). Индекс взяткодателей, рассчитанный для Российской Федерации в 2002 году, составил 3,2 балла, что также свидетельствует о высоком уровне коррупции в нашей стране по сравнению с другими странами (в том же году этот индекс составил в Швеции 8,3 бала, что примерно в 2,5 раза лучше российских показателей).
По мнению специалистов, «... можно отметить две универсальные закономерности: коррупция обычно выше в бедных странах, но ниже в богатых; коррупция в целом ниже в странах западноевропейской цивилизации и выше в периферийных странах. Сравнение индексов восприятия коррупции за разные годы показывает, что многие страны за относительно короткий промежуток времени серьезно меняют степень коррумпированности... Впрочем, делать межвременные сравнения индексов CPI надо очень осторожно, поскольку изменения балльных оценок страны могут быть результатом не только изменившегося восприятия коррупции, но и изменившихся выборок и методологии проведения опросов»13. Учитывая инертность коррупции, как социально-правового явления, такие изменения действительно свидетельствуют о каких-то статистических или социологических манипуляциях, чем реальном изменении существа проблемы.
Действительно, в научных оценках реального уровня коррупции следует быть максимально осторожным. Например, автор одной газетной публикации «Коррупцию питает несовершенство власти» от 18 ноября 1997 года, дискутируя по вопросу принятия законопроекта «О борьбе с коррупцией» пишет: «Общеизвестно, что в регионах уровень коррупции (если не в суммарном объеме взяток, то в степени беспредела) много больше, чем на федеральном уровне». Но так ли это на самом деле? Откуда взят «факт» общей известности, и насколько велика эта «общая» известность?
Коррупционное уголовное законодательство весьма изменчиво. Например, в уголовном законодательстве нашей страны появился коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ), где идет речь о незаконной передаче лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконном оказании ему услуг имущественного характера за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением, что создает очевидные дополнительные трудности в диагностике коррупционного поведения. Так, А.В.Малько отмечает: «Главный вред коррупции заключается в том, что она «разъедает» государственную власть, делает её слабой, немощной, фиктивной»16. При коммерческом же подкупе «разъедается» корпоративная власть.
Наиболее важное значение при измерении коррупции имеет, конечно, официальная статистическая отчетность, поскольку осуществляется в масштабах страны по строго установленным правилам, которые можно контролировать. Учитывая же макроэкономическое значение измерения уровня коррупции, весьма полезно закладывать её относительную величину в систему национальных счетов (СНС). К числу методов измерения коррупции следует отнести: интервьюирование и анкетирование респондентов, отобранных случайным образом; методы открытой проверки, доступные компетентным контролирующим органам, выявляющим нарушения валютного, таможенного, антимонопольного законодательства, санитарных норм, правил торговли и т.п.; методы экономико-правового анализа (документальный и экономический анализ, метод сопоставления специальных расчетных показателей), метод стереотипов, метод корректирующих показателей.
В настоящее время для измерения уровня коррупции широко используются различные индексы, полученные в ходе социологических опросов и экспертных оценок. Измерять коррупцию можно по числу выявленных коррупционных сделок, их финансовым результатам, числу участников, величине вредных последствий для общества и государства. Однако такие измерения не имеют полноценного уголовно-правового смысла и полезны в большей мере с точки зрения макроэкономической политики государства, но не специфической криминальной составляющей, поскольку далеко не все коррупционные деяния уместно относить к преступным.
-
1 Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. М., 1997. С. 407.
-
2 См.: Юзиханова Э.Г. Техника криминологического исследования: Учебное пособие / Под ред. проф. В.В. Лу-неева Тюмень, 2005. С. 7.
-
3 См.: Теория статистики: Учебник/ Под ред. проф. Г.Л. Громыко. М., 2006. С. 23.
-
4 См.: Там же. С. 24.
-
5 Лунеев В.В. Юридическая статистика. М., 2000. С. 6.
-
6 Там же. С. 61.
-
7 Юзиханова Э.Г. Криминологические достоинства российского уголовного законодательства // Уголовное право. 2006. № 3. С. 99.
-
8 Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. М., 1997. С. 8-9.
-
9 Известия. 1999. 31 июля.
-
10 В этом международном правовом документе определение коррупции почему-то не приводится, а дается, например, в ст. 2 Конвенции Совета Европы о траждан-ско-правовой ответственности за коррупцию, где под коррупцией понимается просьба, предложение, дача или принятие, прямо или косвенно, взятки, или любого другого имущества, или обещание такового, которые искажают нормальное выполнение этой обязанности или поведение, требуемое от получателя взятки, преимущества или обещания такового.
-
11 Юзиханова Э.Г. Криминологические достоинства российского уголовного законодательства. С. 100.
-
12 Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (Страсбург, 9 сентября 1999 г.)// Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб.документов / Сост. В.С.Овчинский. М., 2004. С. 316.
-
13 Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика. М., 2006. С. 68.
-
14 Коновалов И.Н., Петров М.П. Социологические методы исследования коррупции // Правовая политика и правовая жизнь. 2004. № 4. С. 31-32.
-
15 Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Указ, работа С. 72-73.
-
16 Малько А.В. Цели и наиболее эффективные юридические средства современной российской антикоррупционной политики// Правовая политика и правовая жизнь.2004. № 4. С. 39.
Список литературы Проблема измерения уголовно-наказуемой коррупции
- Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. М., 1997. С. 407.
- Юзиханова Э.Г. Техника криминологического исследования: Учебное пособие/Под ред. проф. В.В. Лунеева. Тюмень, 2005. С. 7.
- Теория статистики: Учебник/Под ред. проф.Г.Л. Громыко. М., 2006. С. 23.
- Там же. С. 24.
- Лунеев В.В. Юридическая статистика. М., 2000. С. 6.
- Там же. С. 61.
- Юзиханова Э.Г. Криминологические достоинства российского уголовного законодательства//Уголовное право. 2006. № 3. С. 99.
- Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. М., 1997. С. 8-9.
- Известия. 1999. 31 июля.
- Юзиханова Э.Г. Криминологические достоинства российского уголовного законодательства. С. 100.
- Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (Страсбург, 9 сентября 1999 г.)//Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб.документов/Сост. В.С. Овчинский. М., 2004. С. 316.
- Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика. М., 2006. С. 68.
- Коновалов И.Н., Петров М.П. Социологические методы исследования коррупции//Правовая политика и правовая жизнь. 2004. № 4. С. 31-32.
- Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Указ. работа С. 72-73.
- Малько А.В. Цели и наиболее эффективные юридические средства современной российской антикоррупционной политики//Правовая политика и правовая жизнь.2004. № 4. С. 39.