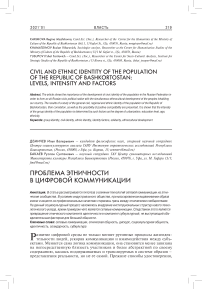Проблема этничности в цифровой коммуникации
Автор: Демичев Илья Валерьевич, Бакаев Руслан Султанович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Школа молодого этнополитолога
Статья в выпуске: 1, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается гипотеза о влиянии технологий сетевой коммуникации на этнические сообщества. В условиях индустриального общества, при массированном выравнивании образа жизни и акценте на профессиональных качествах стиралась грань между этническими сообществами. На данный социокультурный процесс наложилось внедрение институциональных структур нового технологического уклада, ярким примером чего является сетевые коммуникации. Следствием этого является превращение этнического компонента идентичности в компонент субкультурный, не выступающий объединительным фактором для большой общности.
Сетевые коммуникации, этническая общность, дискурс, социокультурная общность, идентичность, солидарность, субкультура
Короткий адрес: https://sciup.org/170174561
IDR: 170174561 | DOI: 10.31171/vlast.v29i1.7946
Текст научной статьи Проблема этничности в цифровой коммуникации
Развитие цифровой среды не только меняет рутинные процессы жизнедеятельности людей, ускоряя коммуникацию и взаимодействия между субъектами. Меняется сама логика коммуникации, она становится менее завязана на непосредственную близость участников и более абстрактной по своему содержанию, касаясь поддерживаемых и транслируемых в системе образов – представления реальности, но не ее самой. Прежние способы удостоверения, фиксации связи такого представления и представленного оказываются если не бесполезными, то не актуальными, поскольку обретают принципиальную полисубъектность. Само объективное сворачивается до субъективного образа – как с точки зрения источника, так и с точки зрения интерпретации: коммуникация становится практически чистой интерпретацией интерпретации субъектов. Мир «офлайн», как со своей «вещной» стороны, так и со стороны практики, по сути, отходит на второй план – это не столько источник, сколько, в лучшем случае, иллюстрация, а скорее фон для раскрытия и развертывания интерпретации. Соответственно, меняется истинность, становящаяся лишь внутренней проверкой субъекта на корректность связи системы утверждений, и коллективность, которая обретает характер спонтанной включенности в дискурс. Социальность, опосредованная такой коммуникативной средой, оказывается диссоциированной: поскольку для субъектов более важно участвовать в «своей» коммуникации, нежели в «своем» окружении, а само окружение вне коммуникации не маркировано ее атрибутикой – близкие связи лишены смысла за пределами конкретной практики. Наконец, отсутствие референтной связи образа и реальности и субъективность внутренней согласованности определяют высокую вариативность самих образов: они уже не столько эталоны, на которые следует ориентироваться, сколько установки, от которых следует отталкиваться. Последнее обуславливает высокую текучесть коммуникативных сообществ и их возрастающую дробность, поскольку противоречит самой логике их складывания вокруг данной системы образов и их интерпретаций, отход или вариация которых означает также выход из сообщества [Бреслер 2020: 26 – 31]. Стоит добавить сюда принципиальную же частичность вовлечения субъектов в коммуникативное сообщество, причем, вовсе нет необходимости, чтобы сообщества, в которых взаимодействует субъект, хоть как-то согласовывались друг с другом – и становится понятно, что социальное пространство, как оно существовало в условиях индустриального типа общества, не просто изменяется. Оно элиминируется до двух отчасти пересекающихся типов: непосредственного окружения субъекта «офлайн» и непосредственного же окружения «онлайн», причем, в обоих типах на практике это пространство также разрозненно. Первое, парадоксальным образом, отсылает к доиндустри-альному обществу локальных сообществ, связанных друг с другом «большими нарративами» абстрактных обобщенных представлений аксиоматического характера, вроде религии. Однако второе определяет принципиально новое качество «рассыпанной» социальности, поскольку даже на локальном уровне если не единства, то хотя бы комплиментарности представлений и практик не возникает – и чем более крупное локальное сообщество рассматривается, тем меньше связей внутри него. Даже если речь идет о сельском мире, наиболее «плотном» типе сообществ, можно с уверенностью говорить, что чем больше он пронизан информационными технологиями и средами, тем больше будет этот эффект [Мурзагулов 2018: 19 – 23].
Разумеется, это сказывается на существовании и функционировании всех типов сообществ внутри социальной системы – территориальных, профессиональных, стратовых, досуговых. Рассмотрим, как под действием новых условий изменяется такой специфический тип сообществ, как этнические.
Этнические сообщества отсылают к некоторому целому, объединяющему территориальные, профессиональные и иные группы – причем, так, что они образуют не столько номинальное, сколько сущностное единство. Сходства, например, профессиональных сообществ в своей конкретной области для каждого из них, конечно, значительны, однако жизнь сообществ, вписанная в более общую структуру отношений будет отличаться. «Русский инженер» и
«американский инженер», разумеется, инженеры и обладают схожими навыками, принципами мышления, практиками – однако «русскость» и «амери-канскость» будет существенно изменять их жизнедеятельность, настолько, что потребуется определенная адаптация представителям одного сообщества в среде другого. С другой стороны, «русский инженер» и «русский рабочий» будут ближе и понятнее друг другу, в силу того же общего контекста системы отношений, в которые они вписаны [Барбашин 2014]. Очевидно, что сама система при этом неоднородна и динамична – так, что во всякий последующий момент времени профессиональные и территориальные группы могут быть ближе или дальше друг другу, вплоть до взаимного непонимания или отторжения [Демичев, Султанова, 2017]. Такая ситуация может быть охарактеризована, как кризис этнического сообщества – однако и в этом случае стороны, как правило, будут апеллировать к тому, что антагонисты «перестали быть своими», т.е. отрицают или нарушают некоторые базовые правила и установки, что и вызывает конфликт. Таким образом, этническое сообщество, по общему представлению, есть целое структурированное, объединяющее на практике частные группы некоторыми фундаментальными условиями и принципами. Группы и люди считают друг друга «своими» постольку, поскольку распознают соответствие этим принципам – и модифицируют свое поведение на основании этого. Соответственно, рефлексия принципов, позволяющая определить «своего», выступает идентичностью этнического сообщества, а модификация поведения на этом основании – его солидарностью. При этом следует подчеркнуть, что и солидарность, и идентичность не носят абстрактного характера, они должны постоянно воспроизводиться в коммуникации сообщества и его групп, а также в его организованной практике – иначе они перестают быть фокусом коллективного представления и практики, и утрачиваются, замещаясь тем, что в таком фокусе находится. Исходя из этого понятна роль контактов представителей этнического сообщества друг с другом, непосредственные или опосредованные (поскольку этнические сообщества – большие группы): чем выше их плотность, чем специфичнее организованы связи, тем более значимо сообщество для его участников и более представлены его идентичность и солидарность. И наоборот, чем меньше плотность и специфичность таких контактов, тем больше группы замыкаются в себе – или на других отношениях – обретая собственные – или иные – идентичность и солидарность [Демичев, Султанова, 2018]. Поскольку этнические сообщества «большие» и представляют собой распределенную сеть сообществ локальных и иерархическую структуру сообществ стратовых, то воспроизводство этничности оказывается возможным именно в этом отношении: межстратовых и межтерриториальных контактов. В их рамках частные принципы и установки субэтнических сообществ передаются друг другу, «узнаются» и вписываются в категории «своего». В противном случае такие группы перестают воспринимать друг друга и по факту этническое сообщество диссоцируется. Такая диффузия установок, с одной стороны, формирует сложное целое большого этноса, а с другой – обеспечивается специальными институтами, как правило, связанными с управлением обществом (государство) или трансляции культуры (образование, СМИ). Сложное целое при этом образует, своего рода, универсальный контекст, вариациями которого выступают субэтнические и прочие сообщества, постольку, поскольку считают его «своим». Институциональная организация, в свою очередь, не только непосредственно обеспечивает взаимодействие и координацию этих сообществ, но и на практике реализует, воспроизводит принципы этнического сообщества в целом. В этом смысле, социокультурная динамика большого этноса колеблется между унификацией в соответствии с базовой идентичностью и вариативностью объективно различающихся подгрупп – представляя, своего рода, суперпозицию нескольких разнонаправленных процессов [Андерсон 2016, Демичев, 2019].
Социальная практика, хотя и является главной для людей и групп, для этнического сообщества, скорее, представляет собой верификацию идентичности: соответствует или нет заявленным образам. В этом смысле, этническое сообщество – сообщество, преимущественно коммуникативное, в поле которого можно выделить базовые дискурсы, непосредственно воспроизводящие идентичность, и дискурсы функциональные, имеющие, своего рода, «прикладной», в соответствие с основными ориентациями частных сообществ, характер. Именно в этом отношении сказывается фактор «цифровой» коммуникации, рассмотренный выше.
В первую очередь, изменения касаются «объективной» стороны жизнедеятельности этнического сообщества. Учитывая, что этносы исторически складывались в условиях доиндустриального типа общества, и их традиции, фиксирующие образный ряд идентичности, привязаны именно к нему, этнич-ность существенно ослабла уже при предыдущем модернизационном переходе. Индустриализм, жестко перекроивший образ жизни, социальные и культурные формы, типы личности, во многом ослабил этнические установки – так, что они во многом свернулись к досуговой своей составляющей, атрибутике и т.п. необязательным внешним формам. Достаточно вспомнить об изменении роли традиционного искусства, которое перестало быть основной символической средой, оставшись фольклором: то, что изучают и иногда преобразуют, но не то, в чем живут. Соответственно, религиозная мифология сменилась мифологией научной, трансформировалась антропология и т.д. Даже этнографическая атрибутика отошла в область необязательного и, в лучшем случае, праздничного – аналогично, то, на что смотрят со стороны, а не то, во что, например, одеваются. Это эпоха становления национального универсума с регулярными институтами и дискурсами, а не локальными личностными традициями и отношениями. Однако даже она имела объективную референт-ность и национальные идентичности, в которые вписывались в том или ином отношении идентичности этнические, концептуализировали и фиксировали реальный образ жизни и отношения в обществе. По сути, национальные идентичности (в нашем случае, советская) стали более сложным и масштабным вариантом идентичности этнической, сохранив свою роль и значение. В самом подобном переходе нет особой революционности, кроме масштабов: всякий достаточно крупный доиндустриальный этнос в период своего становления складывался из племенных компонентов, далеко не обязательно родственных друг другу, постепенно снижая значение племенных идентичностей в пользу общей этнической. В этом смысле, с объективной стороны достаточно лишь отметить, что сейчас традиционные этнические сообщества, в силу универсализации и масштаба общества, влились в национальный универсум, и выступают, скорее, субкультурами последнего, нежели самостоятельными единицами. Это можно проследить даже на примере относительно редких моноэтничных государств, наподобие Польши, Прибалтики или Центральной Азии, которые либо входят в состав более крупного и доминирующего объединения, задающего стандарты отношений, либо из-за широкой миграции постоянно контактируют с ними.
«Цифровая» коммуникативная среда, развивающаяся в таких условиях, в свою очередь, с одной стороны, предполагает еще большую стандартизацию отношений и образа жизни – просто в силу универсальных протоколов общения и взаимодействия, а с другой, наполняет саму коммуникацию сложным и высоковариативным содержанием. Оно слабо реферирует реальность, однако обладает высокой экзистенциальной значимостью для участников, поскольку, по сути, определяет их базовый и личный смысловой и образный фон жизни. Отсутствие объективной основы, которая верифицирует и придает статус «реальности» такому содержанию, по сути, сводит его в область индивидуального досуга, случайно выбранного и в любой момент покидаемого в силу отсутствия желания или иных причин. Значимость именно этнических сообществ проявляется, как и в случае с другими отделяющими субкультурами, в комфортности участия или социальных преимуществах. В любом случае, они не распространяются на все сообщество, лишь определяя близкий круг участников этническими маркерами. Аналогичные примеры можно было видеть в специфических «диаспоральных» этнических сообществах, однако теперь ими становятся все типы этносов.
В свою очередь, высокая вариативность цифровой коммуникации делает равнозначными, например, представления об истории (и традициях) народа и фантастические миры, что наглядно можно заметить на материале сравнения этнографических, реконструкторских и фанатских сообществ крупных франшиз современности, таких, как «Властелин колец», «Звездные войны», «Вархаммер» и других. Последние обладают весьма подробно описанной историей миров, мифологией, их образный ряд ближе и понятней современному человеку, нежели этнические мифы и эпосы – и этот образный ряд постоянно воспроизводится в коммуникации сообществ, как специфических (фанатских), так и общих, транслируясь через стандартные каналы и нарративы участников. Специфические формы трансляции – например, институт косплеев – сближает фанатские сообщества с реконструкторскими, которые в деталях стремятся воспроизвести атрибутику и отдельные черты образа жизни прошлого [Пеннер 2016]. Однако единственное, что отличает последних от первых – это экзистенциально сомнительный для стороннего участника статус «реальности», по масштабу же и вовлеченности редкие реконструкции могут сравниться с косплеем популярных франшиз. Наконец, реконструкции декларируют точное соответствие воспроизводимых ими форм, преимущественно, атрибутики, этнографическим образцам (сравните с «каноничностью» фандомов) – однако, с одной стороны, в средах сообщества не утихают дискуссии о верности такого воспроизводства, с другой, для невовлеченных в сообщества лиц степень соответствия не имеет особого значения и обладает досуговым характером, а с третьей – для самих представителей этнических сообществ этнографический материал практически не проявлен в рутинной жизни, и имеет столь же внешний, атрибутивный характер. Более того, в условиях «цифровой» среды и эквивалентности вариативных образов, сильнее проявляется возникший еще в индустриальных нациях феномен абстрагирования этнических маркеров и воспроизводства их безотносительно этнической принадлежности. В самом деле, даже тогда фольклор, вошедший в публичную коммуникацию – школу, СМИ, институализированное искусство и т.п. – рекомбинированный с «академической» культурой, воспроизводился профессиональными группами, и транслировался в публичных каналах информации на всех, в них включенных, а значит, становился компонентом образного ряда нации, частью ее организации, но не специфической чертой этнического сообщества, в нее входящего, пусть и стереотипизируя последнее. В современных условиях – условной «анонимности в сети» и спонтанности участия в сообществах, в дополнение к описанным выше – даже использование этнического языка не способно жестко отнести участника к этническому сообществу, поскольку, с одной стороны, далеко не все его представители владеют и используют этот язык, а с другой – его можно относительно легко выучить. Учитывая, при этом, что участники коммуникации живут в общем культурном контексте, а значит, за пределами «узкой» этнической тематики содержание общения будет относительно общим, языковой маркер, будучи, по сути, единственным для коммуникативных сообществ, играет роль фильтра, отсекающего тех, кто не способен на нем общаться, но даже не фиксирует общность всех его носителей.
Таким образом, этнические сообщества в цифровой среде представляют собой распределенную сеть коммуникативных сообществ, единственным маркером которых выступает чистое самоопределение, как таковых. Эта сеть распределена, поскольку отсутствуют иные практики, объединяющие участников сообществ – по крайней мере, за пределом офлайн-коммуникации – кроме потенциальных внутригрупповых, а также потому, что всякий участник лишь частично и временно включен в данное сообщество, и способен свободно переходить между ними, входить и выходить из них. Чистое самоопределение маркирует эти сообщества постольку, поскольку все остальные маркеры – от языка и атрибутики до коллективных представлений – являются не только вариативными, но даже необязательными, т.е. они не объединяют сообщества сети в некоторое целое или даже общее на уровне содержания представлений. Их институциональным оформлением выступают генерирующие и поддерживающие контент коммуникации субъекты, вокруг которых складывается стохастическая среда общения, причем эти субъекты, по сути, определяют эталон парадигмы общения, а потому не выступают стороной диалога участников. Последние лишь разделяются на группы, поддерживающие или оппонирующие заданному образу – и по условиям цифровой коммуникации, последние, как правило, через определенный период просто выносятся за пределы среды общения, в лучшем случае, формируя собственную, оппонирующую данной, среду [Шарков 2015]. Это обуславливает не просто вариативное содержание этнической идентичности, но ее дробность и принципиальную внутреннюю конфликтность.
Относительную мощь таким сообществам, функцией которой выступает влияние на обобщенное представление об этносе, придает только относительная же численность участников коммуникации (либо внимание внешних субъектов – например, государственных органов или СМИ, выводящих данную группу из внутреннего во внешнее поле) – что также определяет конкурентный характер этнических коммуникативных сообществ.
Принципиальная частичность этнического контекста в жизнедеятельность участников сообществ обуславливает не только текучий характер состава этнического сообщества, но и слабую его связь с обычными практиками – а значит, такие сообщества имеют характер не столько определения, например, моральных констант, сколько характер интереса к тематике. То есть, этнические установки, не важно, воспроизводящиеся или реконструируемые субъектами, являются внешними атрибутами личности постольку, поскольку в данный момент и под действием некоторых факторов она к ним обращается. Можно предположить, что основным фактором при этом выступает индукция самосознания под действием внешнего влияния: если сторонние группы в описание данной личности или данной группы используют этнический маркер, последние также обретают склонность использовать это самоописание – в том числе, и с использованием внешних образов (например, феномен «клюквы»). Это же определяет специфику этнической идентичности, которая направлена на подчеркивание частных отличий, что выступает основанием для солидаризации малой группы внутри универсального целого и определенное – более или менее последовательное, более или менее радикальное – оппонирование последнему. Этничность, таким образом, оказывается нацелена не столько на вовлеченность участников, сколько на их отделение от других.
Статья публикуется при поддержке Школы молодого этнополитолога в Республике Башкортостан (грант Фонда президентских грантов 19-2-022447).
Список литературы Проблема этничности в цифровой коммуникации
- Андерсон Б. 2016. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма / Пер. с англ. В. Николаева; вступ. ст. С. П. Баньковской. - М.: Кучково поле, 416 с
- Барбашин М.Ю. 2014. Институты и этногенез: институциональное воспроизводство этнической идентичности в локальных сообществах // Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 3-е. издание, С. 372
- Бреслер М.Г. 2020. Онтология сетевого бытия: монография / М.Г. Бреслер; послесловие А.Д. Хасаншин.: Уфа: Изд-во УГНТУ, 130 с
- Демичев И.В. 2018. Динамика сложной системы идентичностей // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. № 41. С. 106-113
- Демичев И.В. 2019. Замкнутость и диффузия: к вопросу о маркировании этнических сообществ // Единство. Гражданственность. Патриотизм. Сборник научных трудов к 100-летию Республики Башкортостан, С. 194-197
- Демичев И.В., Султанова Г.Д. 2017. Идентичность как социокультурный феномен // LogosetPraxis. Т. 16. № 3. С. 40 - 48
- Демичев И.В., Султанова Г.Д. 2018. Типы, виды и режимы функционирования идентичностей // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. 2018. № 1. С. 107-117
- Мурзагулов Р. Р. 2018. Цифровое общество середины XXI в. Как новый этап цивилизационного развития. Социально-философский анализ / Екб.: "Издательские решения", С. 52
- Пеннер Р. В. 2016. De Re ad absurdum: проблема идентичности человека в феномене косплея (онтоантропологический анализ) // Социум и власть. №3 (59). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/de-re-ad-absurdum-problema-identichnosti-cheloveka-v-fenomene-kospleya-ontoantropologicheskiy-analiz (дата обращения: 9.11.2020)
- Шарков Ф. И. 2015. Развитие виртуальных сетевых сообществ в интернете // Коммуникология. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-virtualnyh-setevyh-soobschestv-v-internete (дата обращения: 9.11.2020)