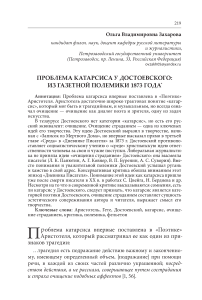Проблема катарсиса у Достоевского: из газетной полемики 1873 года
Автор: Захарова Ольга Владимировна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.11, 2013 года.
Бесплатный доступ
Проблема катарсиса впервые поставлена в «Поэтике» Аристотеля. Аристотель достаточно широко трактовал понятие «катар сис», который мог быть и трагедийным, и музыкальным, но всегда озна чал очищение — очищение как диалог поэта и зрителя, одну из задач искусства. В тезаурусе Достоевского нет категории «катарсис», но есть его рус ский эквивалент: очищение. Очищение страданием — одна из ключевых идей его творчества. Эту идею Достоевский выразил в творчестве, начи ная с «Записок из Мертвого Дома», но впервые высказал прямо в третьей главе «Среда» в «Дневнике Писателя» за 1873 г. Достоевский противопо ставляет социалистическому учению о «среде» христианскую идею ответ ственности человека за свои и чужие поступки. Либеральная журналисти ка не приняла идею «очищения страданием» Достоевского: она высмеяла писателя (Л. К. Панютин, А. Г. Ковнер, В. П. Буренин, А. С. Суворин). Вме сто понимания и уважительной полемики Достоевский услышал ругань и хамство в свой адрес. Консервативная критика обошла вниманием этот эпизод «Дневника Писателя». Понимание этой идеи как катарсиса пришло уже после смерти писателя в XX в. в работах С. Цвейга, Н. Бердяева и др. Несмотря на то что в современной критике высказываются сомнения, есть ли катарсис у Достоевского, следует признать, что катарсис является кате горией поэтики Достоевского, очищение страданием составляет сущность эстетического сопереживания автора и читателя, выражает смысл его творчества.
Аристотель, гете, достоевский, катарсис, очищение страданием, критика, полемика, фельетон
Короткий адрес: https://sciup.org/14748862
IDR: 14748862
Текст научной статьи Проблема катарсиса у Достоевского: из газетной полемики 1873 года
П р облема катарсиса впервые поставлена в «Поэтике»
Аристотеля, который рассматривал ее как один из признаков трагедии:
…трагедия есть подражание действию важному и законченному, имеющему определенный объем, [подражание] при помощи речи, в каждой из своих частей различно украшенной; посредством действия, а не рассказа, совершающее путем сострадания и страха очищение подобных аффектов [1, 56].
Катарсис, по Аристотелю, выражает смысл творчества, сущность эстетического воздействия искусства на человека. Видя страдания на сцене, сострадая происходящему, зритель очищается от аффектов, от которых страдают и погибают герои.
Еще одно упоминание Аристотелем этой категории — описание музыкального катарсиса в трактате «Политика»:
Аффекту, сильно действующему на психику некоторых лиц, подвержены, в сущности все, причем действие отличается лишь степенью своей интенсивности; например, [все испытывают] состояние жалости, страха, а также энтузиазма. И энтузиастическому возбуждению подвержены некоторые лица, впадающие в него под влиянием религиозных песнопений, когда эти песнопения действуют возбуждающим образом на психику и приносят как бы исцеление и очищение. То же самое, конечно, испытывают и те, кто подвержен состоянию жалости и страха и вообще всякого рода прочим аффектам. <...> Все такие лица получают своего рода очищение, то есть облегчение, связанное с наслаждением 1 [Цит.: 4, 88].
Аристотель достаточно широко трактовал понятие «катарсис», который мог быть и трагедийным, и музыкальным, но всегда означал очищение — очищение как диалог поэта и зрителя, одну из задач искусства. К этому эффекту должен стремиться каждый автор.
В тезаурусе Достоевского нет категории «катарсис», но есть его русский эквивалент: очищение . Очищение страданием — одна из ключевых идей его творчества.
Эту идею он выразил в творчестве, начиная с «Записок из Мертвого Дома», но впервые высказал прямо в третьей главе «Среда» в «Дневнике Писателя» за 1873 г., опубликованной во втором номере «Гражданина» от 8 января. Оценивая оправдательные приговоры, вынесенные судами присяжных, Достоевский противопоставляет социалистическому учению о «среде», которое «обезличивает» человека, освобождает «отъ всякаго нравственнаго личнаго долга, отъ всякой самостоятельности, доводитъ до мерзѣйшаго рабства» христианскую идею ответственности человека за свои и чужие поступки (34)2. По мнению писателя, сокрытая в русском народе идея его виновности вмѣстѣ съ каждымъ преступникомъ» дает человеку веру в то, что
…среда зависитъ вполнѣ отъ него, отъ его безпрерывнаго пока-янiя и самосовершенствованiя. Энергiя, трудъ и борьба, — вотъ чѣмъ переработывается среда. Лишь трудомъ и борьбой достигается самобытность и чувство собственнаго достоинства (34).
Писатель призывает присяжных входить в залу с мыслью, «что и мы виноваты», тогда боль сердечная <...> будетъ для насъ наказанiемъ <…> она насъ очиститъ и сдѣлаетъ лучшими <…>, мы и среду исправимъ и сдѣлаемъ лучшею (33).
Вспоминая свое пребывание на каторге, автор «Дневника Писателя» уверяет, что ни один из преступников
…не миновалъ долгаго душевнаго страданiя внутри себя, сама-го очищающаго и укрѣпляющаго <…> повѣрьте, никто изъ нихъ не считалъ себя правымъ въ душѣ своей! (35)
Замечая, что каторга облегчает участь преступника, так как происходит «самоочищенiе страданiемъ», Достоевский предостерегает «снисходительных» присяжных:
Вы вливаете въ его душу безвѣрiе въ правду народную, въ правду Божiю; оставляете его смущеннаго (35).
Либеральная журналистика зло высмеяла Достоевского. Первым откликнулся Л. К. Панютин. 14 января он опубликовал фельетон, в котором негативно оценил «Дневник Писателя» как дикие «инсинуацiи объ усиленіи наказанія для преступниковъ», а «Гражданин», как «отдающій мертвечиной журналъ»3.
Фельетонист задает саркастичные вопросы:
Кто, нечитавшій въ «Гражданинѣ» «Дневника Писателя» повѣритъ, что эти возмутительныя строки написаны г. Ѳ. Досто-евскимъ, гуманнымъ авторомъ «Мертваго Дома»? Признаюсь, я и теперь не увѣренъ, что это имя попало подъ статью не по ошибкѣ наборщика. Или справедливы слухи, одно время ходив-шіе въ литературномъ кружкѣ, о болѣзненномъ состояніи г. До-стоевскаго? Или ему не случалось читать о томъ, какъ оправданные обливались слезами раскаянія? Или ему неизвѣстны безчисленные примѣры того, какъ жестокое наказаніе превыше вины ожесточало преступниковъ, посягавшихъ на новыя престу-пленія, просто съ отчаянія?
Не пытаясь понять смысл слов Достоевского, Л. К. Паню-тин восклицает: «Дивныя дѣла творятся на святой Руси!». Он сравнивает автора с Гоголем, а «Дневник Писателя» с «Перепиской с друзьями»:
Первые симптомы нынѣшняго настроенія г. Достоевскаго начали проявляться въ его романѣ «Преступленіе и наказаніе», гдѣ рядомъ съ тонкимъ психологическімъ анализомъ, попадались тирады, похожія на горячечный бредъ разстроеннаго вообра-женія; въ «Бѣсахъ» еще замѣтнѣе стремленіе къ болѣзненной фантастичности, а «Дневникъ Писателя» еще болѣе напоминаетъ извѣстныя записки, оканчивающіяся восклицаніемъ: «а все-таки, у алжирскаго бея на носу шишка!»
Портрет писателя, выставленный в Академии художеств, вызывает у Л. К. Панютина язвительную «жалостливость»:
Довольно взглянуть на портретъ автора «Дневника писателя», <...> чтобъ почувствовать къ г. Достоевскому ту самую «жалостливость » , надъ которою онъ такъ некстати глумится въ своемъ жур-налѣ — это портретъ человѣка, истомленнаго тяжкимъ недугомъ.
Достоевский ответил на эту насмешку пародией в главе «Бобок»:
…однакоже вотъ меня и сумасшедшимъ сдѣлали. Списалъ съ меня живописецъ портретъ изъ случайности: «все-таки ты, говоритъ, ли-тераторъ». Я дался, онъ и выставилъ. Читаю: «Ступайте смотрѣть на это болѣзненное, близкое къ помѣшательству лицо» (162).
Этот эпизод в полемике Достоевского и Панютина обстоятельно проанализировал В. А. Туниманов [7].
На следующий день после выхода воскресного фельетона Л. К. Панютина в третьем номере «Гражданина» (15 января) Достоевский опубликовал четвертую главу «Дневника Писателя», в конце которой он пересказал разговор с одним «изъ самыхъ уважаемыхъ мною людей», мнением которого он дорожит, имея в виду, конечно, не фельетониста «Голоса» (64). Вспоминая его оценку главы «Среда», писатель удивленно сокрушается, что идеи, высказанные в ней, были не поняты:
Я былъ горестно изумленъ. <...> Неужели такъ можно истолковать мою статью! Послѣ этого ни объ чемъ нельзя говорить <…> Но какъ однакоже могутъ быть поняты и перетолкованы слова (64).
Предчувствия не обманули писателя. Вместо понимания и уважительной полемики Достоевский услышал ругань и хамство в свой адрес. В этом смысле не стал исключением фельетон В. П. Буренина, опубликованный 20 января, в котором он оценивает Достоевского-публициста как «клику-шечнаго фельетониста»:
…онъ невмѣняемъ по отношенію къ здравому смыслу и логикѣ <…>, проводитъ свою философію и свою мораль отнюдь не черезъ процессъ мышленія, а черезъ процессъ, если такъ можно выразиться нервическаго выкликанія», а «Дневник Писателя» как «проповѣдь очистительнаго значенія каторги 4 .
Публикация в третьем номере «Гражданина», по мнению критика, свидетельство того, что «г. Достоевскій самъ себѣ, кажется, не вѣритъ» и желает оговориться, что «я-де совсѣмъ не то хотѣлъ сказать».
Достоевский вернулся к разъяснению своего понимания «очищения страданием» в пятой главе «Влас» «Дневника Писателя», опубликованной в четвертом номере «Гражданина» 22 января. Полемизируя с Некрасовым, писатель убеждает читателя в том, что поэта в русском народе поражает «потребность самоспасенiя, эта страстная жажда страданiя», которая выражает такие качества русского народа, как
…потребность хватить черезъ край, потребность въ замираю-щемъ ощущенiи, дойдя до пропасти, свѣситься въ нее на половину, заглянуть въ самую бездну и <…> броситься въ нее какъ ошалѣлому, внизъ головой. Это — потребность отрицанiя въ че-ловѣкѣ иногда самомъ не отрицающемъ и благоговѣющемъ, от-рицанiя всего, самой главной святыни сердца своего, самаго пол-наго идеала своего, всей народной святыни во всей ея полнотѣ <…> Я думаю самая главная, самая коренная духовная потребность русскаго народа — есть потребность страданiя, всегдашня-го и неутолимаго, вездѣ и во всемъ (98).
Эти черты, по мнению писателя, объясняют, почему:
…у русскаго народа даже въ счастьи непремѣнно есть часть страданiя, иначе счастье его для него не полно. Никогда, даже въ самыя торжественныя минуты его исторiи, не имѣетъ онъ горда-го и торжествующаго вида, а лишь умиленный до страданiя видъ;
онъ воздыхаетъ и относитъ славу свою къ милости Господа. Стра-данiемъ своимъ русскiй народъ какъ бы наслаждается (98).
Русскому народу присуще «сердечное знанiе Христа и истинное представленiе о немъ» (98). Достоевский допускает, что Христос
…можетъ быть единственная любовь народа русскаго <…> и онъ любитъ образъ Его по своему, то есть до страданiя (99).
Третья и пятая главы «Дневника Писателя» стали предметом полемики в фельетоне А. Г. Ковнера, опубликованном в «Голосе» 25 января5. По мненiю фельетониста, глава «Среда» один из примеров того, «что значитъ не разсуждать и не шевелить "мозгами"». Восклицая «Боже великiй, до чего же договорился г. Достоевскiй, сойдясь съ княземъ Мещер-скимъ», А. Г. Ковнер спрашивает:
Кто же больше клевещетъ на народъ — г. Достоевскій ли, гово-рящій, что народъ имѣетъ «потребность» страданія, или тѣ, которые желаютъ избавить его отъ излишнихъ страданій и которымъ г. Достоевскій обѣщаетъ «комическое» будущее?..
Рассказ писателя об грехопадении Власа он рассматривает как «ничтожное обстоятельство», которое
…г. Достоевскій раздуваетъ въ цѣлую народную поэму; <...> пускаясь по поводу его въ разныя психическія тонкости, приходитъ къ открытію, что русскій народъ имѣетъ потребность «страдать»…
Как и роман «Бесы», «Дневник Писателя», по мнению А. Г. Ковнера, является свидетельством «болезненности» автора:
…грустно становится за писателя, который не понимаетъ больше окружающей его жизни съ настоящими ея страданіями, который неспособенъ уразумѣть настоящій смыслъ снисходительности суда присяжныхъ и который, останавливаясь на какомъ-ни-будь единичномъ уродливомъ явленіи, анализируетъ его, какъ міровое событіе, и выводитъ изъ него законъ для общаго цѣлаго!..
Полемику с писателем А. Г. Ковнер продолжил после публикации в восьмом номере «Гражданина» (19 февраля) главы «Смятенный вид», в которой Достоевский, затрагивая вопрос появления в России секты штундистов, говорит о
«предъызбранном» назначении русскаго народа, которое состоит в том, чтобы
…охранить у себя божественный образъ во всей чистотѣ, а когда придетъ время — явить этотъ образъ міру, потерявшему пути свои (226).
Эти слова Достоевского вызывают у фельетониста иронию в форме льстивой издевки:
Я до сихъ поръ былъ совершенно убѣжденъ въ великой мысли автора «Дневника»; я иначе и думать не могъ 6 .
Высмеивая писателя за мнимые противоречия, фельетонист доверительно спрашивает у читателя:
Понимаете ли вы теперь, кàкъ курьёзно быть авторомъ «Мерт-ваго дома» и вѣрить въ очистительное назначеніе каторги, писать сегодня «Бѣдныхъ людей», «Униженныхъ и оскорбленныхъ», а завтра — «Бѣсовъ» и «Дневникъ писателя»? Чувствуете ли, кàкъ курьёзно на одной страницѣ возлагать всѣ свои надежды на тём-ныхъ «Влàсовъ», которые должны обновить міръ, а на другой — роптать на тѣхъ же «Влàсовъ» за то, что они слишкомъ снисходительны къ преступникамъ? Умѣстно ли въ одно время скорбѣть о народныхъ несчастіяхъ, а въ другое — проповѣдывать страданіе, какъ главную, коренную народную потребность?
А. Г. Ковнер призывает Достоевского покаяться, он «краснеет» за писателя.
Автор фельетона «Заметки провинциального философа» открыто признается, что не понимает Достоевского, жалоба которого на неправильное истолкование его слов, вызывает ироническое замечание: «какое злополучiе, не быть никогда понятымъ»7. Он упрекает писателя в том, что он «плодитъ жестокость, деревянность и тупость», и восклицает: «Г. До-стоевскiй, пощадите, пощадите!..»
Еще одним критиком идеи Достоевского стал А. С. Суворин, который иронизирует над тем, что каторга «освежает» и «очищает» человека, именуя ее «лечебницей отъ нрав-ственныхъ недуговъ»8. Он уподобляет «Гражданин» «мертвому дому», вызывающему у сотрудников
…влеченiе къ бичеванiю и очищенiю, точно имъ совѣстно находиться въ мѣстѣ, имѣющемъ не особенно лестную литературную славу, и точно имъ невозможно не проповѣдовать о том, что это не совсѣмъ мертвый домъ русской мысли, а монастырская колокольня, на которую въ звонари допускаются только чистые серд-цемъ и нищiе духомъ.
Либеральная критика не приняла идею «очищения страданием» Достоевского: она высмеяла писателя. Консервативная критика обошла вниманием этот эпизод «Дневника Писателя».
Достоевский мыслил идею «очищения страданием» как ключевую в романе «Преступление и Наказание»9.
Понимание этой идеи как катарсиса пришло уже после смерти писателя.
В 1920 г. С. Цвейг опубликовал трилогию «Три мастера. Бальзак. Диккенс. Достоевский», в которой он обратил внимание на то, что
…в конце всех романов Достоевского является катарсис греческой трагедии, великое очищение: над прошумевшими грозами в прозрачном воздухе торжественно сияет радуга, для русского высший символ примирения [8, 104].
Это толкование соответствует концепции катарсиса как категории поэтики, предложенной Гете в «Примечании к "Поэтике" Аристотеля»:
…когда трагедия исчерпала средства, возбуждающие страх и сострадание, она должна завершить свое дело гармоническим примирением этих страстей 10 .
По отношению к творчеству Ф. М. Достоевского этот закон поэтики сформулировал Н. Бердяев:
Освобождающий свет есть и в самом темном и мучительном у Достоевского. Это — свет Христов, который и во тьме светит. Достоевский проводит человека через бездны раздвоения — раздвоение основной мотив Достоевского, но раздвоение не губит окончательно человека. Через Бого-Человека вновь может быть восстановлен человеческий образ [2, 221].
Несмотря на то что в современной критике высказываются сомнения, есть ли катарсис у Достоевского [6], следует признать, что катарсис является категорией поэтики Достоевского, очищение страданием составляет сущность эстетического сопереживания автора и читателя, выражает смысл его творчества.
Примечания
*
Статья подготовлена в рамках реализации комплекса мероприятий Программы стратегического развития ПетрГУ на 2012–2016 гг.
Сравним с переводом А. Ф. Лосева: «Аффекту, сильно действующе- му на психику некоторых лиц, подвержены, в сущности, все, причем действие отличается лишь степенью своей интенсивности; например, [все испытывают] состояние жалости, страха, а также энтузиазма. И энтузиастическому возбуждению подвержены неко- торые лица, впадающие в него под влиянием религиозных песнопений, когда эти песнопения действуют возбуждающим образом на психику и приносят как бы исцеление и очищение. То же самое, конечно, испытывают и те, кто подвержен состоянию жалости и страха и вообще всякого рода прочим аффектам, поскольку каждый такой аффект свойствен данному индивиду. Все такие лица получают своего рода очищение, то есть облегчение, связанное с удовольствием» [5, 188].
Цитаты приводятся по: Достоевский Ф. М. Дневник Писателя // Гражданин. 1873. № 2 (8 января). С. 32—36; № 3 (15 января). С. 60—64; № 4 (22 января). С. 96—100; № 6 (5 февраля). С. 162—166; № 8 (19 февраля). С. 224—226. Номер страницы указывается в круглых скобках после цитаты.
Адмирари Нил. <Панютин Л. К.> Листок // Голос. 1873. № 14. 14 января. Z. <Буренин В. П.> Журналистика. Нечто о «великом слове» и великом пророке, его возвестившем. Полное воскресение в журналистике вопроса о призвании варягов. «Переговоры кн. Меншикова в Константинополе», г. Богдановича. «Практическая философия XIX века», г. А. Б. «Странники или бегуны», г. Розова («Вестник Европы», январь). Очистительное значение каторги и нервически-выкликатель-ные фельетоны г. Ф. Достоевского («Гражданин», №№ 1, 2 и 3) // Санкт-Петербургские Ведомости. 1873. № 20. 20 января.
<Ковнер А. Г.> Литературные и общественные курьезы // Голос. 1873. № 25. 25 января.
<Ковнер А. Г.> Литературные и общественные курьезы // Голос. 1873. № 60. 1 марта.
Заметки провинциального философа (Посвящается «Гражданину») // Неделя. 1873. № 5. 4 февраля. С. 178—184.
Незнакомец <Суворин А. С.> Недельные очерки и картинки. Нечто о каторге и добродетели // Санкт-Петербургские Ведомости. 1873. № 55. 25 февраля.
Подробнее об этом см. главу «"Православное воззрение": Идеи и идеал в романе "Преступление и Наказание"» [3, 260—272].
-
10 Гете И. В. Примечание к «Поэтике» Аристотеля // Собр. соч. В 10 т.
М., 1980. Т. 10, C. 398—401.
Список литературы Проблема катарсиса у Достоевского: из газетной полемики 1873 года
- Достоевский Ф. М. Дневник Писателя//Гражданин. 1873. № 2 (8 января). С. 32-36
- Достоевский Ф. М. Дневник Писателя//Гражданин. 1873. № 3 (15 января). С. 60-64
- Достоевский Ф. М. Дневник Писателя//Гражданин. 1873. № 4 (22 января). С. 96-100
- Достоевский Ф. М. Дневник Писателя//Гражданин. 1873. № 6 (5 февраля). С. 162-166
- Достоевский Ф. М. Дневник Писателя//Гражданин. 1873. № 8 (19 февраля). С. 224-226.
- Адмирари Нил. Листок//Голос. 1873. № 14.14 января.
- Z. Журналистика. Нечто о «великом слове» и великом пророке, его возвестившем. Полное воскресение в журналистике вопроса о призвании варягов. «Переговоры кн. Меншикова в Константинополе », г. Богдановича. «Практическая философия XIX века», г. А. Б. «Странники или бегуны», г. Розова («Вестник Европы», январь). Очистительное значение каторги и нервически-выкликательные фельетоны г. Ф. Достоевского («Гражданин», № 1, 2 и 3)//Санкт-Петербургские Ведомости. 1873. № 20. 20 января.
- Ковнер А. Г. Литературные и общественные курьезы // Голос. 1873. № 25. 25 января. Ковнер А. Г. Литературные и общественные курьезы // Голос. 1873. № 60. 1 марта.
- Заметки провинциального философа (Посвящается «Гражданину»)//Неделя. 1873. № 5. 4 февраля. С. 178-184.
- Незнакомец Недельные очерки и картинки. Нечто о каторге и добродетели//Санкт-Петербургские Ведомости. 1873. № 55. 25 февраля.
- Гете И. В. Примечание к «Поэтике» Аристотеля//Собр. соч. В 10 т. М., 1980. Т. 10, С. 398-401.
- Аристотель. Об искусстве поэзии. М., 1957. 184 с.
- Бердяев Н. А. Собрание сочинений. А. С. Хомяков. Миросозерцание Достоевского. К. Леонтьев. Т. 5. Париж, 1997. 580 с.
- Захаров В. Н. Имя автора -Достоевский. Очерк творчества. М., 2013. 456 с.
- Лосев А. Ф., Шестаков В. П. История эстетических категорий. М., 1965. 376 с.
- Лосев А. Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М., 1975. 776 с.
- Померанц Г. Есть ли катарсис у Достоевского? Обзор неакадемической критики//Достоевский и мировая культура. СПб., 1994. № 2. С. 14-24.
- Туниманов В. А. Л. К. Панютин и «Бобок» Достоевского//Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1976. С. 160-163.
- Цвейг С. Три мастера: Бальзак, Диккенс, Достоевский. Триумф и трагедия Эразма Роттердамского. М., 1992. 286 с.
- Aristotle. The Art of Poetry [Ob iskusstve poezii]. Moscow, 1957. 184 p.
- Berdiaev N. A. Complete Works [Sobranie sochinenij]. A. S. Homiakov. Dostoyevsky's World View [Mirosozercanie Dostoevskogo]. K. Leontev. Vol. 5. Paris, 1937. 580 p.
- Zakharov V. N. The Author's Name is Dostoevsky. An Essay on the Creative Work [Imja avtora-Dostoevskij. Ocherk tvorchestva]. Moscow, 2013.456 р.
- Losev A. R, Shestakov V. P. The History of Aesthetic Categories [Istorija esteticheskih kategorij]. Moscow, 1965. 376 p.
- Losev A. R The History of Ancient Aesthetics. Aristotle and Later Classics [Istorija antichnoj estetiki. Aristotle i pozdnjaja klassika]. Moscow, 1975. 776 p.
- Pomerants G. Is there Catharsis in Dostoevsky's Works? Review of Non-Academic Criticism. [Est' li katarsis u Dostoevskogo? Obzor neakademicheskoj kritiki]. Dostoevsky and World Culture [Dostoevski] i mirovaja kul'tura]. St. Petersburg, 1994, no. 2, pp. 14-24.
- Tynimanov V. A. Lev Panyutin and Dostoevsky's Boboc [L. K. Paniutin i «Bobok» Dostoevskogo]. Dostoevsky. Materials and Research [Dostoevskij. Materialy i issledovanija]. Leningrad, 1976, pp. 160-163.
- Zweig S. Three Masters: Balzac, Dickens, Dostoevsky. Triumph and Tragedy of Erasmus [Tri mastera: Balzak, Dikkens, Dostoevskij. Triumf I tragedia Erazma Rotterdamskogo]. Moscow, 1992. 286 p