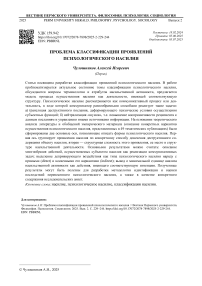Проблема классификации проявлений психологического насилия
Автор: Чулошников А.И.
Журнал: Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология @fsf-vestnik
Рубрика: Психология
Статья в выпуске: 2 (62), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена разработке классификации проявлений психологического насилия. В работе проблематизируется актуальное состояние темы классификации психологического насилия, обсуждаются вопросы терминологии и атрибутов насильственной активности, предлагается модель процесса осуществления насилия как деятельности, имеющей соответствующую структуру. Психологическое насилие рассматривается как коммуникативный процесс или деятельность, в ходе которой коммуникатор разнообразными способами реализует такие задачи: а) трансляция деструктивного послания, деформирующего психические условия осуществления субъектных функций; б) нейтрализация «шумов», т.е. повышение восприимчивости реципиента к данным посланиям и управлению иными источниками информации. На основании теоретического анализа литературы и обобщений эмпирического материала (описание конкретных вариантов осуществления психологического насилия, представленных в 49 тематических публикациях) были сформированы две основные оси, позволяющие описать формы психологического насилия. Первая ось группирует проявления насилия по конкретному способу донесения деструктивного содержания объекту насилия, вторая — структурная сложность этого проявления, ее место в структуре насильственной деятельности. Основными результатами можно считать: описание многообразия действий, осуществляемых субъектом насилия как реализации коммуникативных задач; выделение депривирующего воздействия как типа психологического насилия наряду с прямыми (direct) и косвенными его вариантами (indirect); вывод о минимальной единице анализа насильственной активности как действия, имеющего соответствующую интенцию. Полученные результаты могут быть полезны для разработки методологии идентификации и оценки последствий перенесенного психологического насилия, а также в качестве конкретного содержания исследовательских анкет.
Насилие, психологическое насилие, классификация насилия
Короткий адрес: https://sciup.org/147250991
IDR: 147250991 | УДК: 159.942 | DOI: 10.17072/2078-7898/2025-2-229-244
Текст научной статьи Проблема классификации проявлений психологического насилия
Received: 18.02.2024 Accepted: 05.06.2025
Потребность в десубъективации другого человека возникает по мере того, как другой человек и потребности, удовлетворяемые им, появляются в нашей жизни, а его субъектность становится преградой и источником фрустрации. И если по мере развития общества постепенно снижается толерантность к физическому насилию, то возникает необходимость в новых, более изощренных способах лишить другого его субъектности [Mannell J., Guta A., 2018]. Но и с физическим насилием не так-то все просто: случайный толчок, реактивную агрессию, неловкое грубое движение можно спутать с наме- ренным действием. Распознание психологического насилия и вовсе становится весьма нетривиальным делом [Sikström S. et al., 2021]. Можно сказать, что психологическое насилие возникло в результате эволюции человеческой культуры, условий совместного существования как более тонкий способ сломить волю другого без явного применения силы или же в отсутствии возможности силового воздействия [Lan-gone M.D., 1992]. Если допустить сравнение в духе «теории оседлого бандита» М. Макгуайра и. М. Олсона, субъект насилия постепенно ищет такую форму десубъективации, при которой репутационные издержки минимализиру-ются, а выгодоприобретение становится ста- бильным. Для этого насильственная активность может трансформироваться из «острой» формы в «хроническую», становясь сложной деятельностью, скрывающейся за множеством внешне не связанных действий в единый мотив.
Описывая проявления психологического насилия, исследователи зачастую ограничиваются перечислением гетерогенных (по сложности) практик и отдельных поведенческих актов [Аптикиева Л.Р., 2020; Волков Е.Н., 2002; Волкова Е.Н. и др., 2016; Казымова Н.Н. и др., 2019]. В некоторых случаях классификации появляются в результате обобщения эмпирического материала [Хаидов С.К., 2020; Rodríguez-Carballeira A. et al., 2014]. Каждая такая классификация несет в себе признаки следующих проблем. Первая — дефицитарность фундаментального и ясно сформулированного теоретического понимания насилия, а именно рассмотрения насилия как активности, имеющей специфическое мотивационное основание. Без этого классификация становится бесконечным коллекционированием различных по структуре элементов, выключенных из системы (деятельности), наделяющих их именно тем системным свойством, которое разделяет насилие и ненасилие. Вторая проблема также исходит из дефицитов теории — нечто важное не включается в классификации, т.к. не всегда обладает формальными признаками насилия. При этом ряд формально безобидных действий субъекта насилия обеспечивает возможность насилия, его вредоносность и действенность [Чеверики-на Е.А., Фатина М.Л., 2017; Sikström S. et al., 2021]. Однако при их рассмотрении в рамках деятельности, направленной на десубъектива-цию они могут обрести смысл.
Предметом работы является описания проявлений психологического насилия, представленных в тематической литературе.
Целью данной работы является разработка классификации проявлений психологического насилия с точки зрения их места в реализации насилия как коммуникативной деятельности.
Психологическое насилие: определение и критерии
Эффективность классификаций проявлений какого-либо феномена, в том числе и насилия, заключается в правильности и точности определения этого феномена. Насилие — феномен сложный для определения и не всегда напря- мую связан с агрессией, агрессивным поведением или явным причинением вреда [Чевери-кина Е.А., Фатина М.Л., 2017; Устинов В.П., 2005; Langone M.D., 1992]. Психологическое насилие и вовсе может осуществляться в рамках конвенциональных форм интеракций [Бо-чавер А.А, Хломов К.Д., 2013; Чуганский С.А., 2019; Jones Sh. et al., 2005], проявляясь в формально безобидных мелочах, постепенно растворяя у реципиента остатки его субъектности.
Конвенциональная и неконвенциональная де-субъективация . Критерий подавления субъектности также требует некоторого уточнения посредством следующих терминов: конвенциональная и неконвенциональная десубъектива-ция. Конвенциональной десубъективацией можно считать практики, осуществляемые с прямого или косвенного согласия объекта воздействия, результатом которого является частичное подавление субъектных функций. Примером таких практик можно рассматривать практики BDSM, введения в гипноз или иных форм временного, добровольного понижения собственных субъектных функций в процессе приобретения новых навыков [Тхостов А.Ш., 2010]. Неконвенциональной десубъективацией можно считать воздействие, осуществляемое без согласия или полного информирования объекта воздействия, при котором степень подавления субъектных функций находится вне его контроля.
Определение насилия . Можно вывести следующее определение насилия в целом и психологического насилия в частности. Насилие — это: 1) форма социально-психологического взаимодействия субъектов [Mikołajczuk К., 2020; Гусейнов А.И., 2006], 2) характеризующаяся наличием направленности хотя бы одного из участников этого взаимодействия на снижение актуальных или потенциальных проявлений субъектности другого участника или группы лиц (их десубъективации) [Чулошников А.И., 2023], 3) осуществляющаяся неконвенционально, против воли объекта воздействия [Ильин Е.П., 2013; Тхостов А.Ш., 2010; Аптикие-ва Л.Р., 2020], 4) путем нарушения его переживания безопасности или попыток, направленных на это [Волков Е.Н., 2002; Чулошни-ков А.И., 2024].
Психологическим насилием (своеобразной родовой категорией, включающей психическое, психологическое, эмоциональное насилие) мож- но считать такую форму десубъективации, при которой воздействие осуществляется преимущественно информационным способом [Langone M.D., 1992]. Мишенями воздействия становятся психические факторы (процессы, состояния, свойства), обеспечивающие реализацию проявлений субъектности. Слово «преимущественно» призвано подчеркнуть тот факт, что воздействие на психические условия субъектности могут осуществляться и опосредованно, к примеру, через модификацию или индукцию соматических процессов в теле объекта насилия [Чулошников А.И., 2024].
Психологическое насилие в большинстве случаев, в отличие от физического насилия, представляется как более «растянутый процесс», с более продолжительным эффектом. Если разделить процесс насилия на два этапа: «десубъективирование» и эксплуатацию де-субъективированного другого, то для физического насилия данные этапы могут быть реализованы либо в существенно более короткие сроки, либо вовсе слиты. Десубъективирование при психологическом насилии, напротив, может быть реализовано как в короткие сроки, таки и растянуто, осуществляемо поэтапно.
Психологическое насилиекак коммуникативная деятельность
Если рассматривать в качестве мишеней психологического насилия феномены психики, которые прямо или косвенно оказывают влияние на способность субъекта к реализации субъектных функций (активной или пассивной волевой регуляции, выбору, переживанию собственной активности) [Стахнева Л.А., 2010], то формой психологического насилия должно быть то, что способно на них повлиять, а именно — информация [Baron R.S., 2000]. Информацией можно считать любую обратную связь, дающую представление о соотношении индивида и среды (физической, социальной, интрапсихической). Важным моментом выступает степень ее постоянства и безальтернативности поступаемой информации, которые формируют отношения к ней как к релевантной. Мера постоянства также определяет то, будет ли информация формировать чисто функциональное состояние адаптации к среде, или же структуры для продолжительного взаимодействия с ней. Иными словами, постоянство информационного насиль- ственного воздействия может определять класс деформируемых психических явлений (состояние или свойство).
В качестве «деформируемых» свойств в первую очередь можно рассматривать отношения (к себе, другим людям, миру) [Аптикие-ва Л.Р., 2020; Бандура О.О. и др., 2019; Земляных М.В., Изотова М.Х., 2019] как гораздо более гибкие свойства, нежели темперамент или характер.
Схема коммуникативного акта как описание задач трансляции сигнала . Мы будем рассматривать психологическое насилие как трансляцию информации преимущественно в рамках коммуникативного акта, но при этом не ограниченном им. Сам же коммуникативный акт в соответствии с моделями коммуникации (К. Шеннон, У. Уивер, Г. Малецке, Г. Ласуэлл) можно в самом обобщенном варианте представить следующими структурными элементами: а) отправитель (кто и как отправляет), б) содержание (что отправляется), в) канал (в каких условиях), г) кому (отношение к информации, состояние).
Так, психологическое насилие можно представить не только как процесс трансляции информации. Это реализация таких целей в структуре насильственной деятельности, как: повышение референтности отправителя ( стать значимым источником ); подбор эффективных каналов трансляции сообщения, устранение шумов и их монополизация ( оградить от других источников ); воздействие на получателя для «улучшения» восприятия им этой информации ( лишить ресурсов, обеспечивающих критическую оценку ).
Классические модели коммуникативного процесса также можно дополнить теорией сигналов (М. Спенс, А. Захави). Данная группа концепций делает акцент на форме или самом факте трансляции сообщения. Таким образом, они расширяют спектр анализируемых насильственных действий до: их формы, эмоционального сопровождения, конгруентности («важно не то, что я говорю, а как я это говорю»); через демонстрацию поведения, факт которого может нести определенное сообщение («если я так делаю, значит я могу себе это позволить, а ты не можешь запретить»); через отсутствие референтного поведения, свидетельствующего, к примеру, о «сохранности привязанности», акту- ального «дружественного отношения», «рабочего контакта» и т.д. [Heise L. et al., 2019].
Исходя из этого, психологическое насилие можно представить не столько как конкретное действие, но как систему действий, ведомых мотивом десубъективации. Она может быть подвергнута анализу в рамках соответствующей терминологии (операция – действие – деятельность), а все разнообразие наблюдаемой феноменологии может быть интерпретировано в рамках целей и задач, выполнение которых обеспечивает «успешную» трансляцию десубъективирующих посланий. Процесс осуществления психологического насилия может быть разбит на множество частей, смысл которых можно понять при динамическом наблюдении, знании конкретного межличностного контекста и предполагаемого образа результата.
О классификациях психологического насилия
Прежде чем приступить к описанию эмпирической части исследования, опишем найденные нами классификации вариантов осуществления психологического насилия, как тот бэкграунд, на основании которого мы строили свою. Под такими классификациями мы имеем в виду то, как тот или иной автор пробовал обобщить, подвести под единое основание или сгруппировать различные действия, которыми один индивид пытается деформировать субъектность другого.
Из обнаруженной литературы, посвященной этой теме, можно сделать вывод о том, что подлинных классификаций, т.е. инструмента логического деления феномена на классы и подклассы, не так уж много [Волкова Е.Н. и др., 2016; Гаязова Л.А., 2007; Jones Sh. et al., 2005; Rodríguez-Carballeira A. et al., 2014]. Чаще всего встречаются классификации ситуаций насилия (в зависимости от типа социальной коммуникации) [Андрианова Р.А., и др., 2021; Борисов С.Н. и др., 2020; Mikołajczuk K., 2020], типов насилия (психологическое, эмоциональное, физическое) [Садыков Р.М., Большакова Н.Л., 2022; Фирсова Е.В., 2015], причин и типологий субъектов и объектов насилия (истинное, оборонительное ) [Ali P.A. et al., 2016].
В настоящее время для нас представляет интерес классификация тактик психологического насилия, разрабатываемых исследовательской группой Á. Rodríguez-Carballeira, O. Saldaña, C. Porrúa-García и их коллег [Rodríguez-Carballeira A. et al., 2014]. Эта классификация, на наш взгляд, является наиболее эмпирически и теоретически разработанной. На ее базе разрабатываются и валидизируются ряд опросников [Antelo E. et al., 2021; Porrúa-García C. et al., 2016; Saldaña O. et al., 2023].
Примерами таких опросников являются Scale of psychological abuse in intimate partner violence (EAPA-P – Шкала психологического насилия в близких отношениях) [Longares L. et al., 2018], Psychological Abuse Perpetrated in Groups Scale (PAPGS – Шкала психологического насилия, совершаемого в группах) [Saldaña O. et al., 2023] и др. Классификация была разработана на результатах интервью специалистов, работающих с данной проблематикой. Она также включает в себя идею разделения тактик психологического насилия на явные и неявные, направленно деформирующие те или иные психические мишени (direct — направленные на изменение эмоционального состояния, когниций, поведения), или обеспечивающие его трансляцию (indirect — управление средой, контекстом) [Rodríguez-Carballeira A. et al., 2014; Porrúa-García C. et al., 2016]. Также была произведена попытка ранжирования «вредоносности» каждого из способов осуществления насилия [Rodríguez-Carballeira A. et al., 2015]. Тем не менее, не смотря на достоинства этой классификации, ее критерии и содержание определенно обладают потенциалом к доработке путем и большей детализации, и, одновременно, большего обобщения.
Эмпирические основания классификации проявлений психологического насилия
Методология исследования
Эмпирический материал и способ его поиска . Объектом нашего исследования стали статьи, посвященные психологическому насилию. Поиск осуществлялся на базе таких электронных ресурсов, как eLibrary, Cyberleninka, Google Scholar, Sci-Hub, по ключевым словам «насилие», «психологическое насилие», «эмоциональное насилие», «абъюз», «violence», «abuse», «in-timate partner violence» . По данным запросам нами было обнаружено 49 публикаций. Из них 33 русскоязычных и 19 зарубежных, за последние 10 лет — 36, и 13 более ранних.
Предметом исследования стали варианты классификации, а также основания классифицирования того, что авторы идентифицируют как проявления «нефизического» насилия.
Цель . Осуществить классифицирование описываемых проявлений психологического насилия, как в их формальном, так и в структурном аспекте, рассматривая их как элементы процесса осуществления деятельности.
Методы обработки и верификации исследовательских обобщений. В качестве методов обработки материала (единицей которого являлось название насильственного действия, либо его описание) мы использовали контент-анализ. Он был верифицирован экспертными оценками трех клинических психологов, специализиру- ющихся или работающих с людьми, ставшими объектами психологического насилия.
Обобщение эмпирического материала происходило в два этапа: первый — идентификация повторяющихся критериев; второй — построение авторской классификации на основании идентифицированных критериев.
Первично выявленные критерии
Результатом первичного анализа проявлений психологического можно считать выявление нескольких полярных критериев для его структурирования (табл. 1). Данные группы критериев можно представить, как своеобразные измерения, описывающие организацию и конкретные инструменты .
Таблица 1. Первичные группы критериев структурирующие проявления психологического насилия
Table 1. Primary groups of criteria structurizing manifestations f psychological violence
|
Группа |
Описание критерия |
Примеры полярностей |
|
|
Инструментальные критерии |
По инструментам воздействия: вербальные – невербальные |
Вербальные : придумывание обидного прозвища, словесное отвержение, критика |
Невербальные : неприличные жесты, плевки, грубое нарушение телесных границ |
|
По степени опосредованности : непосредственное воздействие – опосредованное (через окружающую) |
Непосредственное : критика, личное оскорбление, отвержение |
Опосредованное : порча имущества жертвы, пользование вещами без спроса, изоляция, финансовое ограничение |
|
|
По степени активности субъекта насилия: послание формируется активными действиями – бездействием. |
Активные : издевательства, оставление унижающих комментариев в социальных сетях, притеснение |
Пассивные : игнорирование, эмоциональная холодность, предъявление невыполнимых требований, отсутствие ухода |
|
|
По степени определенности содержания послания: определенные – не определенные |
Определенные : озвучивание негативного отношения, угроза, нанесение ударов |
Неопределенные : оставление пустых записок в личных вещах, неожиданные нарушения личного пространства, пародирование; депривация сна. |
|
|
Критерии структуры |
По частоте : ситуативное – повторяющееся |
Ситуативное : угроза, обесценивание, удар |
Регулярное : уничижительное отношение, травля, терроризирование, третирование |
|
По сложности воздействия: простое – составное |
Простое : толчок, обзыватель-ство, повышение голоса, презрительный взгляд |
Сложное : необоснованная критика, шантаж, жестокое обращение, размещение обидной информации в интернете |
|
Итоговая система критериев классификации проявлений психологического насилия
В отличие от исследовательской группы Á. Rodríguez-Carballeira, в разработке классификации мы хотели сделать упор на бо́льшую детализацию группы непрямых (indirect) методов воздействия. Так, помимо прямой «индок-тринации», есть способы воздействия, заключающиеся в отсутствии некоторого поведения, в тех ситуациях, где оно должно быть. Это стратегии игнорирования, отсутствие ухода и эмоциональной обратной связи в детско-родительских или партнерских отношениях. Также это могут быть чрезмерно высокие требования, предъявляемые к объекту насилия значимым для него человеком [Dokkedahl S. et al., 2019; Kimber M. et al., 2017].
Система представляет собой описание проявлений психологического насилия по двум осям: содержательной (каким конкретным образом осуществляется трансляция) и структурной (критерий частоты и сложности ).
Содержательная ось классификации проявлений насилия. В качестве основного критерия, структурирующего различные варианты насилия, мы выбрали критерий определенности транслируемого содержания, а именно ясности и однозначности послания субъекта насилия его объекту. На рисунке данная ось обозначена вертикально: сверху — будут располагаться классы, наиболее определенно транслирующие то или иное послание (пример: критика, прямое сообщение негативного отношения), внизу — наименее (пример: напрошенные советы, ограничение питания, вторжение в личное пространство). Исходя из этого критерия, мы сформировали три группы проявлений насилия: прямое воздействие; депривирующее воздействие; воздействие на среду. Первые две группы выполняют задачу либо активной трансляции деструктивного послания, либо отсутствия трансляции конструктивного послания. Третья группа преимущественно реализует задачу улучшения условий трансляции послания, либо их косвенного или неявного дублирования. В качестве дополнительного критерия, структурирующего проявления насилия, выступает критерий степени опосредованности трансляции, а именно — наличия проме- жуточных средств, выступающих носителями послания (другие люди, социальные сети, вещи, поступки).
Структурная ось классификации проявлений насилия . На рисунке данная ось располагается вертикально и распределяет проявлений насилия в зависимости от их сложности: а) операции, акты без явного обозначения интенции; б) действия, комбинация актов с более ясным обозначением интенции; в) системы действий — регулярно осуществляемые сходные действия, либо система гетерогенных действий, в той или иной степени соответствующих уровню деятельности .
На наш взгляд, многие варианты психологического насилия могут иметь сложный, составной характер и могут быть зафиксированы лишь в динамическом наблюдении, при рассмотрении их как действий или системы действий (деятельности) при сопоставлении с итоговым результатом, если таковой имеется.
Ниже, на рисункепредставлена общая структура классификации, которая раскрывается в трех таблицах (табл. 2, 3 и 4), которые представляют из себя три группы проявлений психологического насилия, структурированных в соответствии с обозначенными осями.

Общая структура классификации проявлений насилия
The main structure of classification of psychological violence manifestations
Таблица 2. Описание методов прямого насильственного воздействия Table 2. Description of methods of direct violence
|
Операция |
Действие |
Система действий |
|||
|
S ей в © ей © с |
Прямое вербальное воздействие — субъект насилия вербально транслирует ясное и однозначное послание |
обзывательство; насмешка; гневный крик; упрек; грубое слово; жесткая оценка; некорректное замечание; негативное сравнение |
оскорбление личностных качеств; слова, заставляющие чувствовать себя неловко; угроза; принижение прав, умаление ценности и компетентности; несправедливое обвинение; вербальное выражение презрения; высмеивание черт характера; убеждение в психическом заболевании; деструктивное морализаторство; сексуально окрашенные комментарии; присвоение обидного прозвища; открытое признание в нелюбви |
постоянная критика; постоянные (беспочвенные) обвинения; неоднократные вербальные унижения; шантаж; |
травля; психологическое притеснение; вымогательство; домогательства; издевательства; газлайтинг; бойкот; унижение и запугивание |
|
Прямое невербальное воздействие — субъект насилия своим поведением транслирует ясное и однозначное послание |
толчок; удар; плевок; пинок; неприличный жест; презрительный взгляд |
действие, заставляющее чувствовать себя неловко; домогательства; намеренное блокирование действий жертвы; жестокое наказание за неправильные действия; |
систематические избиения |
||
|
Опосредованное вербальное послание — субъект осуществляет трансляцию послания опосредованно, через социальную или иную информационную среду |
обидный комментарий/ сообщение; прилюдное прерывание речи |
очернение репута-ции/унижение при лю-дях/распускание сплетен; настраивание окружения против/формирование согласного с насильником окружения; раскрытие неоднозначной информации на публике; удаление из значимой группы; |
унижения и запугивания через интернет и анонимные мессенджеры |
||
|
Опосредованное невербальное послание — субъект осуществляет трансляцию посланий невербально, через воздействие на значимую для объекта среду |
(не обнаружено на уровне операций) |
угрозы близким; нанесение ущерба имуществу; отбирание денег, вещей; размещение провокативных картинок; выражение ненависти к значимым людям/вещам жертвы; массированная атака устройств жертвы спамом |
(те же действия, но существующие на регулярной основе) |
||
Методы психологического воздействия в группе, представленной в табл. 2, в первую очередь характеризуются агрессивностью и в большей степени соответствуют тому, что обозначается как насилие. В этой группе можно выделить как методы, транслирующие негатив- ную обратную связь относительно субъектных качеств объекта насилия, так и ситуативно дезинтегрирующие, разрушающие более глобальное переживание безопасности.
Группа воздействий, представленная в табл. 3, несет фрустрирующее послание без яв- ной демонстрации агрессии. Однако подобные воздействия в полной мере могут быть реализованы лишь при наличии отношений между субъектом и объектом насилия, в которых у последнего есть те или иные ожидания и потреб- ности, в удовлетворении которых включен субъект насилия. Принимая на себя роль значимого Другого, фигура субъекта насилия также может быть интериризирована и тем самым потенциально делая фрустрацию перманентной.
Таблица 3. Описание методов депривирующего насильственного воздействия Table 3. Description of methods of depriving violence
|
Операция |
Действие |
Система действий |
|||
|
s и JS Ч 9 2 С-S S С-= ЕС |
Прямое депривиру-ющее воздействие — субъект насилия либо ситуативно прекращает то или иное потребное поведение в адрес объекта насилия, либо не осуществляет его вовсе |
(не идентифицируются на уровне операций) |
уход от контакта (вербального/ эмоционального); сексуальное пренебрежение; враждебное игнорирование; демонстрация безразличия; наказание путем сокрытия чувств; не проявление сочув-ствия/интереса в близких отношениях; отказ от сотрудничества; отказ от обсуждения проблем/значимых эмоций; отказ в контакте; невыполнение обеща ния |
отвергающий стиль поведения; систематическое неуважение; эмоциональная холодность; регулярная невнимательность к нуждам; чередование любви и угроз, мягкости и жестокости; непредсказуемое поведение; периодическое лишение любви; постоянное игнорирование свободы и мнения; безответственность попустительское отношение к когнитивному и эмоциональному развитию; постоянная недостаточность любви и ласки; регулярное отсутствие защиты и руководства; |
жестокое обращение; инфантилизация/ гиперопека (отсутствие поведения, ведущего к развитию); постоянная подозрительность и недоверие к жертве; разрушение привязанности |
|
Опосредованное де-привирующее воздействие — субъект насилия конструирует условия взаимодействия с ним, по которым то или иное потребное поведение в адрес объекта может быть прекращено |
(не идентифицируются на уровне операций) |
предъявление нереалистичных/ завышенных требований; чрезмерно условное принятие; избирательное награждение и наказание; требования отчитываться обо всем; запрет на проявление эмоций; шантажирование любовью; отказ в положительном подкреплении изначально оговоренных действий; непоследовательность (постоянная смена правил и условий поведения); создание несправедливой системы оценок; поддержание закрытой системы логики поведения и принятия решений |
|||
Группа, представлнная в табл. 4, внешне характеризуется отсутствием явной трансляции посланий о субъектных свойствах объекта насилия, а также отсутствием явной агрессии. Тем не менее, методы данной группы скорее истощают «ресурсную» базу для сопротивления деструктивным воздействиям — социально-информационную, соматическую, экологическую.
При наличии ряда существенных оговорок, связанных с тем, что сама таблица(цы), ее кри- терии являются, по сути, артефактом, можно сделать ряд обобщений.
Таблица 4. Описание методов управления средой
Table 4. Description of methods of managing the environment
|
Операция |
Действие |
Система действий |
|||
|
JS & S К в |
Воздействие на со-циальную/инфор-мационную среду — предметом контроля становится социальное окружение и источники информации, окружающие объекта насилия |
(не идентифицируются на уровне операций) |
дезинформирование; очернение окружения жертвы в ее глазах; сокрытие информации; перевирание фактов |
ограничение доступа к друзьям и семье контроль ближайшего окружения ограничение контактирования |
контроль над личной жизнью; гиперопека; лишение свободы |
|
Воздействие на психофизиологическую среду — предметом контроля становится то, что влияет на психофизиологическое состояние объекта насилия |
(не идентифицируются на уровне операций) |
доведение жертвы до бессознательного/ диссоциативного или астенизированного состояния химическим, хирургическим путем или физически изматыванием |
систематическое ограничение в пита-нии/сне/отдыхе; принуждение к изматывающим трениров-кам/работам; постоянные тревожащие, поддерживающие жертву в постоянной активности действия; создание условий постоянно вызывающих сильные (и полярные) эмоции; депривация медицинским уходом; содержание в антисанитарных условиях; сенсорная депривация физическая инвалидизация жертвы |
||
|
Воздействие на окружающую физическую среду — предметом контроля становится окружающие объект насилия вещи и ситуации |
(не идентифицируются на уровне операций) |
совершение действий без добровольного согласия (наблюдение, пользование вещами, их перемещение, сокрытие, чтение личной переписки/контента личных устройств, съемка на телефон); демонстрация уязвимости личного, приватного пространства |
ограничение финансовых ресурсов (лишение денег, запрет на работу) и иных значимых ресурсов (жилищные неудобства) необходимых для активности жертвы; контроль над детьми жертвы; сталкеринг (преследование); содержание в условиях, не соответствующих социальному уровню |
||
Различные объемы понятия «насилие». Исходя из структурного деления единиц психологического насилия, можно прийти к «широкому» и «узкому» пониманию того, что входит в это понятие. Широкое понимание психологического насилия включает в себя и действия (насилие как инструмент), и системы действий (насилие как цель) безотносительно к конеч- ному мотиву и систематичности, но производящие в той или иной степени десубъективирующий эффект. Узкое же определение сводится к регулярным, сложным и соответствующе мотивированным действиям, представленным в третьем столбце.
Однако данные результаты можно трактовать и иначе — они могут отображать неодно- родность ситуаций психологического насилия, своеобразное его разделение на «быстрое» и «растянутое, сложно организованное».
Степень актуальной десубъективирован-ности как дополнительный параметр . Каждая группа методов косвенно предполагает определенный тип отношений между субъектом и объектом насилия, при котором они становятся доступны и возможны. Так, первая группа не предполагает наличия близких, интимных и регулярных отношений. Вторая группа уже требует наличия таковых отношений, в которых есть «обязательства» по удовлетворении потребностей другого. Третья группа в той или иной степени предполагает отношения зависимости, при которых возможна как регулярность, так и контроль.
В ходе анализа материала мы сталкивались с такими методами насилия, которые уже предполагают ту или иную степень десубъек-тивированности, власти над объектом. Примером могут выступать принуждение к тому, что человек не хочет выполнять (по отношению к себе, другим людям, вещам, правовым и моральным нормам, образу жизни и мыслей), действия, подчеркивающие актуальную беспомощность (глумление над беспомощностью; демонстрация вседозволенности субъекта насилия; воспроизведение ситуаций беспомощности объекта). Помимо этого, встречались практики принуждения к «самоподавле-нию»: к примеру, побуждение к самокритике, самобичеванию, самообесцениванию, самоограничению и поддержанию тех практик, которые бы соответствовали группе Контроля среды. Таким образом, в фазе «пост-насилия» происходит своеобразная интериоризация фигуры субъекта насилия. Функция этих действий выглядит как поддержание и углубление десубъективированности и может быть названа как «пост-насилие».
Выводы
-
1. Психологическое насилие можно представить как сложную коммуникативную деятельность по десубъективации (углублению и стабилизации этого эффекта), осуществляемую разнообразными, гибкими стратегиями, обеспечивающими трансляцию и формирующими восприимчивость к ней. Однако минимальной единицей психологического насилия
-
2. Все многообразие методов психологического насилия можно описать в рамках двух взаимосвязанных осей: а) содержание воздействия (явное/косвенное; эмоциональная дезин-теграция/трансляция десубьективирующего послания), б) сложность, структурированность и, соответственно, протяженность во времени. Не менее поразительным, в отрицательном смысле, является потенциальная технологичность психологического насилия, возможность многоуровневого дублирования воздействий и разделения на этапы по мере вовлеченности и масштабирования, углубления десубъективи-рованности его объекта.
-
3. Идея рассмотрения процесса психологического насилия как коммуникативной деятельности может быть в той или иной мере верифицированной. Абстрактное же разделение насильственных действий на те, что реализуют задачу «трансляции», и те, что «обеспечивающие» ее косвенно, могут указывать на две группы психических мишеней, гипотетически связанных с резистентностью к воздействиям разного рода и непосредственно с тем субъективным содержанием, обеспечивающим реализацию субъектных функций.
-
4. Описанные методы, формы воздействия можно в той или иной степени рассматривать и вне конкретной задачи десубъективации, т. е. описанные категории и подкатегории можно представить как своеобразную форму трансляции какого угодно содержания, в том числе и способствующему ресубъективации как процесса восстановления субъектности в рамках данных форм, но с принципиально иным содержанием.
также может быть и действие как структурная единица деятельности, обусловленная конкретной интенцией. Таким образом, психологическое насилие может реализовываться в формах, различающихся по степени своей сложности, рассматриваться как тактика или стратегия (и как стратегии разные по временной протяженности).