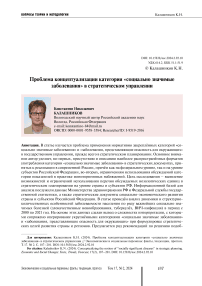Проблема концептуализации категории «социально значимые заболевания» в стратегическом управлении
Автор: Калашников К.Н.
Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc
Рубрика: Вопросы теории и методологии
Статья в выпуске: 2 т.17, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье изучается проблема применения нормативно закреплённых категорий «социально значимые заболевания» и «заболевания, представляющие опасность для окружающих» в государственном управлении, прежде всего в стратегическом планировании. Основное внимание автор уделяет, во-первых, присутствию и описанию наиболее распространённых форматов употребления категории «социально значимые заболевания» в стратегических документах, принятых к реализации в современной России, причём как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации, во-вторых, ограничениям использования обсуждаемой категории показателей в практике мониторинговых наблюдений. Цель исследования - выявление возможностей и ограничений использования перечня обсуждаемых нозологических единиц в стратегическом планировании на уровне страны и субъектов РФ. Информационной базой для анализа послужили данные Министерства здравоохранения РФ и Федеральной службы государственной статистики, а также стратегические документы социально-экономического развития страны и субъектов Российской Федерации. В статье проведён анализ динамики и структурно-количественных особенностей заболеваемости населения по ряду важнейших социально значимых болезней (злокачественные новообразования, туберкулёз, ВИЧ-инфекция) в период с 2000 по 2021 год. На основе этих данных сделан вывод о сложностях интерпретации, с которыми сопряжено оперирование укрупнёнными категориями «социально значимые заболевания» и «заболевания, представляющие опасность для окружающих» при формулировке стратегических целей развития страны и регионов. Предлагается ряд рекомендаций по решению подобных проблем. Новизна исследования заключается в критическом осмыслении возможностей и ограничений использования категорий «социально значимые заболевания» и «заболевания, представляющие опасность для окружающих» в программных документах в силу существенной неоднородности их перечня, включающего принципиально различающиеся нозологические единицы. Практическая значимость состоит в уточнении практик применения обсуждаемой категории показателей в качестве индикаторов регионального развития.
Социально значимые заболевания, заболевания, представляющие опасность для окружающих, заболеваемость, нозологические единицы, стратегии социально-экономического развития, субъекты рф, государственная программа
Короткий адрес: https://sciup.org/147243892
IDR: 147243892 | УДК: 614.2 | DOI: 10.15838/esc.2024.2.92.10
Текст научной статьи Проблема концептуализации категории «социально значимые заболевания» в стратегическом управлении
С экономической точки зрения эпидемиологическое благополучие следует понимать как общественное благо, производство и поставка которого обеспечивается слаженным функционированием и взаимодействием органов исполнительной власти, подведомственных им организаций в сотрудничестве с гражданским обществом и бизнесом (Von Heimburg et al., 2022). Эпидемиологическая картина может и должна оцениваться как показатель качества жизни населения (Кувшинников и др., 2023) и качества государственного управления, социально-экономического развития страны и её регионов, как важная черта их социокультурного облика (Peters et al., 2008). Главным индикатором здесь выступает распространённость заболеваний, которые имеют строгую соотнесённость с социально-экономическими факторами. В международной практике, пусть и далеко не повсеместно, такие заболевания называются социальными. В России они получили наименование «социально значимые». Существует и категория «заболеваний, представляющих опасность для окружающих». Она имеет ряд общих черт с социально значимыми заболеваниями и часто рассматривается как смежная по отношению к ним1. Исследование взаимоотношений между этими группами – отдельная исследовательская задача, но они обе притягивают к себе внимание в силу выраженного негативного влияния их распространения на общественное здоровье. Неслучайно катего- рии «СЗЗ» и «ЗПОДО» официально закреплены в нормативном поле современной России, в том числе и в аспектах организации пенитенциарной системы (Шугаева и др., 2022). Озвучиваются предложения по составлению и утверждению перечня СЗЗ, имеющих уголовно-правовое значение (Звонов, Яковлев, 2020). Они фигурируют в документах социально-экономического развития страны и регионов, выходящих за рамки ведомственных целевых программ и сугубо отраслевой проблематики.
Не вызывает сомнений, что оперирование терминами «СЗЗ» и «ЗПОДО» в вопросах правового характера и в аспектах реализации социальных гарантий требует юридической точности. Однако в контексте стратегического управления, где они используются скорее для актуализации эпидемиологических вызовов и разработки направлений развития территорий, обнаруживается множество фактов пренебрежения строгостью и нормативной силой обсуждаемых категорий. Это противоречие редко учитывается исследователями, а его анализ не находит достаточного отражения в современной академической литературе. В рамках статьи мы ставим задачу показать, что в официальных стратегических документах рассматриваемые термины применяются произвольно, несистематично и непоследовательно. Это затрудняет адекватное понимание остроты текущей ситуации и её актуализации органами власти, а также сути и содержания реализуемых мероприятий и политики в целом, что подчёркивает необходимость исследований в данной области.
Это вызывает особую обеспокоенность в современных российских условиях, когда, во-первых, эпидемиологическая ситуация остаётся напряженной, во-вторых, существует широкая территориальная дифференциация по уровню заболеваемости (Лещенко и др., 2022). В связи с пандемией, вызванной новой коронавирусной инфекцией, список ЗПОДО пополнился новой нозологической единицей – 2019-N CoV, поэтому дальнейшее произвольное оперирование обсуждаемыми терминами может привести к проблемам интерпретации декларируемых органами власти ориентиров развития. Например, читатели стратегических документов, не обнаруживая в текстах категории «ЗПОДО», могут задаться вопросом, получит ли профилактика коронавирусной инфекции достаточное внимание органов власти в ближайшей и отдалённой перспективе.
Целью исследования является анализ возможностей и ограничений использования категорий «СЗЗ» и «ЗПОДО» и перечня составляющих их нозологических единиц в оценке социально-экономического благополучия России в документах стратегического характера и в целом в системе стратегического планирования развития страны и отдельных регионов.
Новизна предпринятого исследования заключается в критическом осмыслении применения категорий «социально значимые заболевания» и «заболевания, представляющие опасность для окружающих» в стратегических документах развития страны и регионов.
В первой части показана внутренняя неоднородность СЗЗ и ЗПОДО по параметрам распространённости и эпидемиологической динамики, а также региональной дифференциации, что, помимо прочего, иллюстрирует сложность использования категорий «СЗЗ» и «ЗПОДО» в аналитических целях и показывает неизбежность их дробления на отдельные нозологические единицы. Во второй части обсуждаются проблемы концептуализации и применения категорий «СЗЗ» и «ЗПОДО» в документах стратегического планирования на примерах стратегий социально-экономического развития регионов России.
Теоретические аспекты
Распространение социально значимых заболеваний тесно связано с социально-экономическими условиями жизни населения, но эта связь, вероятно, носит двусторонний характер. С одной стороны, низкий уровень жизни и неудовлетворительное качество быта создают условия для возникновения очагов заболеваемости.
С другой стороны, массовость случаев заболеваемости обусловливает социально-экономический ущерб для территорий из-за потерь трудоспособности, затрат на выявление и лечение, инвалидности и смертности населения (Будилова, Мигранова, 2020). Отсюда – частое использование этой категории в документах социально-экономического развития страны и регионов.
Заболевания, относящиеся к данной категории, негативно влияют на социальное окружение человека в пределах близкого радиуса, приводят к потере семьи, друзей, работы, средств к существованию (Бояркина, 2019). В научной литературе признаётся взаимная причинная обусловленность этих заболеваний: алкоголизм и наркомания могут привести к заражению инфекциями, передающимися половым путём, и вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (Петросян, Шахмарданов, 2018), а также появлению заболеваний, связанных с повышенным кровяным давлением (Васильев, Стрельцова, 2018), что, впрочем, не распространяется на все болезни в данных группах.
В зарубежной научной и эпидемиологической практике распространение и социальноэкономические последствия заболеваемости и смертности от данных видов болезней чаще изучаются конкретно по отдельным нозологическим единицам, например туберкулёзу (Jilani et al., 2023; MacPherson et al., 2020) или инфекциям, передаваемым половым путём (Ginocchio et al., 2023; Van der Pol, 2016). При этом подчёркивается социальная обусловленность ряда инфекционных (Rasanathan et al., 2019), психических заболеваний (Ni et al., 2020), тогда как аналогичная российской формулировка не находит широкого применения. Более того, ведущими исследователями и экспертами фиксируется социальная детерминированность здоровья вообще и, следовательно, неравенства в отношении общественного здоровья (Solar, Irwin, 2010), поэтому дискуссионным вопросом остаётся актуальность особого выделения категории «социально значимые болезни» в контексте поднятой проблематики. Интерес представляет вопрос, будет ли такая актуализация опираться исключительно на аргументы большей, чем прочие категории заболеваний, обусловленности СЗЗ и ЗПОДО социальными факторами. Возможно, за основу будет взят аргумент большего масштаба рисков?
Между тем термин «социальные болезни» в английском языке всё-таки существует. В словаре английского языка Коллинза приводится два значения «social disease»: первое – как эвфемизм венерических заболеваний (заметим, в других словарях, прежде всего американских, этот вариант интерпретации наиболее распространён и приводится в качестве единственного значения), второе значение близко к тому, которое используется в русском языке: заболевание, распространённое среди определенных социальных групп из-за предрасположенности, вызванной неблагоприятными условиями2. Интересно, что в качестве примера в словаре приведено заболевание, которое в российской практике не включается в обсуждаемую категорию, – кариес. Другой авторитетный источник, словарь компании Merriam-Webster, типичным примером социального заболевания называет туберкулёз, что уже полностью соответствует российскому подходу к интерпретации СЗЗ.
В советской эпидемиологической традиции укоренился термин «социальные болезни», который в первую очередь относился к опасным инфекционным заболеваниям, угрожающим широким, стремительным распространением и значительными хозяйственными потерями (Орлов, 2009). Именно его следует считать предшественником использующегося на сегодняшний день в России термина «социально значимые заболевания». Однако СЗЗ на сегодняшний день включает не только инфекционные, но и неинфекционные заболевания, которые в современных эпидемиологических условиях несут практически равную угрозу для благополучия страны, поэтому их соседство в едином списке более чем оправдано, хотя и создаёт, как мы увидим ниже, значительные трудности в использовании единого объединяющего их термина.
Эпидемиологические наблюдения, выявившие рост заболеваемости социально значимыми болезнями в России и странах бывшего СССР, её связь с экономическими и социальными потрясениями, демографическими и по- веденческими факторами, послужили основанием для составления перечня социально значимых заболеваний. В соответствии со статьей № 41 «Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» Правительство Российской Федерации приняло Постановление № 715 от 1 декабря 2004 г. «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих» (Постановление претерпело редакции от 13.07.2012 № 710, от 31.01.2020 № 66). Критерии включения в перечень заболеваний определены ст. 43 Федерального закона «Об охране здоровья граждан» от 21.11.2011 № 323-ФЗ – это высокий уровень первичной инвалидности и смертности населения, снижение продолжительности жизни заболевших.
В данный перечень вошли болезни, характеризующиеся повышенным артериальным давлением, сахарный диабет, злокачественные новообразования, болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), туберкулез, гепатит, инфекции, передаваемые половым путем, психические расстройства и расстройства поведения.
В группу заболеваний, представляющих опасность для окружающих, были включены 15 видов болезней, из которых часть также вошла в перечень СЗЗ (болезнь, вызванная ВИЧ, туберкулез, гепатиты В и С, инфекции, передающиеся половым путем), а также малярия, холера, чума, сибирская язва и некоторые другие. Перечень таких заболеваний не является постоянным, он дополняется в зависимости от масштабов угрозы распространения, в том числе с летальным исходом. Примером может служить инфекция COVID-19, которая была включена в перечень 31 января 2020 года.
Даже поверхностное знакомство с составом обеих категорий заболеваний заставляет обратить внимание на их пересечение по ряду нозологических единиц (см. средний столбец таблицы 1). Заболевания, объединённые в зоне пересечения двух этих множеств, называются социально опасными (СОЗ), являются и социально значимыми, и представляющими опасность для окружающих (Семёнов и др., 2011). Считается, что принципиальной характеристикой социально значимых заболеваний выступает их способность к широкому рас- пространению (массовость), а заболеваний, представляющих опасность для окружающих, – высокая контагиозность и, следовательно, риск стремительного распространения. Однако это отличие не является абсолютным, поскольку в обеих группах имеются заболевания инфекционного характера, обладающие высокой конта-гиозностью. Вместе с тем есть ряд заболеваний, которые часто встречаются (это новообразования или диабет), а в условиях неблагоприятных социально-экономических условий ситуация ещё более усугубляется, но имеют эндогенную природу, поэтому их распространение не связано с контактами между индивидами (табл. 1).
Несмотря на разнообразие болезней, объединённых под аббревиатурами «СЗЗ» и «ЗПОДО», нельзя не отметить среди них такие, как туберкулёз и ВИЧ-инфекция. Они устойчиво ассоциируются с этими группами, став типичными примерами социально значимых заболеваний. Однако это не должно являться основанием для игнорирования других нозологий из указанных списков. Особого разговора требует присутствующая даже в академической среде практика применения характеристики «социально значимые» к заболеваниям, официально не являющимся таковыми, или отстаивания необходимости включения тех или иных диагнозов в обсуждаемые категории (Хроническая обструктивная болезнь…, 2019). С одной стороны, подобный ревизионистский подход имеет известные основания, поскольку отнесение той или иной нозологии к категории СЗЗ не является строго верифицируемым (речь здесь не идёт о том, имеются ли достаточные основания для присутствия конкретных заболеваний в утверждённых списках, поскольку императивный характер постановлений органов власти сам по себе выступает достаточным аргументом в пользу этого; однако отсутствие ряда нозологий в составе СЗЗ и ЗПОДО вполне может быть предметом для дискуссий), может быть конструктивным, если будет опираться на взвешенный анализ и убедительные аргументы. С другой стороны, его можно рассматривать как некое игнорирование сложившейся нормативной архитектуры, что приводит как минимум к путанице в употреблении принятой терминологии.
Эффективная борьба с социально значимыми заболеваниями, предупреждение и снижение темпов их распространения путём организации и проведения комплекса мероприятий по расширению доступа к профилактике, диагностике и лечению – одна из важнейших задач деятельности отраслевых органов и учреждений Российской Федерации.
Материалы и методы
Информационной базой исследования послужили следующие источники: 1) стратегические документы федерального уровня (Стратегии национальной безопасности РФ; Единый план по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый
Таблица 1. Состав перечней социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих
|
Специфические единицы социально значимых заболеваний |
Общие для категорий социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, единицы (социально опасные заболевания) |
Специфические единицы заболеваний, представляющих опасность для окружающих |
|
– С 00 – С 97 злокачественные новообразования – Е 10 – Е 14 сахарный диабет – F 00 – F 99 психические расстройства и расстройства поведения – I 10 – I 13.9 болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением |
– В 20 – В 24 болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) – А 15 – А 19 туберкулез – А 50 – А 64 инфекции, передающиеся преимущественно половым путем – В 16; В 18.0; В 18.1 гепатит В – В 17.1; В 18.2 гепатит С |
– А 90 – А 99 вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и вирусные геморрагические лихорадки – В 65 – В 83 гельминтозы – А 36 дифтерия – А 30 лепра – В 50 – В 54 малярия – В 85 – В 89 педикулез, акариаз и другие инфестации – А 24 сап и мелиоидоз – А 22 сибирская язва – А 00 холера – А 20 чума – В 34.2 коронавирусная инфекция (2019-N CoV) |
|
Источник: составлено автором. |
||
период до 2030 года) и уровня субъектов СЗФО (тексты стратегий социально-экономического развития до 2030/2035 гг.); 2) данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства здравоохранения РФ, Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), а также документальные источники федеральных органов власти и органов власти субъектов РФ. Заболеваемость населения характеризуется числом случаев заболеваний, выявленных (или взятых под диспансерное наблюдение) в течение года при обращении в лечебно-профилактические организации или при профилактическом осмотре. Первичная заболеваемость регистрируется при установлении пациенту диагноза впервые в жизни. Показатели заболеваемости населения социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих (ниже будет использована аббревиатура «СЗЗ и ЗПОДО») приводятся в соответствии с перечнями, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 715 (в редакции постановлений от 13.07.2012 № 710, от 31.01.2020 № 66), за 2019, 2020 и 2021 годы по стране и субъектам РФ.
Основное внимание в работе уделено выявлению динамики заболеваемости населения РФ СЗЗ и ЗПОДО за период с 2000 по 2021 год, что позволяет критически оценить сокращение присутствия мер по профилактике обсуждаемых заболеваний в программных документах федерального уровня и уровня субъектов РФ, описать возможности и ограничения использования данной группы индикаторов в практике стратегического планирования и оценки качества управления. В последнем случае для анализа были выбраны ряды данных по субъектам РФ за 2021 год (наиболее новые из доступных на момент подготовки рукописи официальных данных), на основе которых осуществлено ранжирование субъектов РФ, рассчитаны показатели вариации.
Результаты и обсуждение
Социально значимые заболевания и заболевания, представляющие опасность для окружающих, в современной России: общая эпидемиологическая картина
Заболеваемость СЗЗ и ЗПОДО в России в период 2000–2021 гг. имела разнонаправленную динамику ( табл. 2 ). По ряду нозологических единиц отмечалось существенное улучшение
Таблица 2. Динамика первичной заболеваемости населения РФ СЗЗ и ЗПОДО, число впервые выявленных заболеваний на 100 000 человек населения
|
Заболевание |
2000 |
2005 |
2010 |
2015 |
2020 |
2021 |
2021 / 2000, % / раз |
|
Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни |
|||||||
|
Активный туберкулез |
89,8 |
83,7 |
76,9 |
57,7 |
32,4 |
31,1 |
-65 |
|
Сахарный диабет |
111,3 |
175,3 |
226,8 |
240,6 |
219,8 |
237,2 |
2,1 (р) |
|
Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением |
298,7 |
542,6 |
609,5 |
898,3 |
934,0 |
992,4 |
3,3 (р) |
|
Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем |
|||||||
|
сифилис |
164,5 |
68,8 |
44,6 |
23,5 |
10,5 |
14,5 |
-11 (р) |
|
гонококковая инфекция |
120,9 |
71,5 |
42,4 |
18,5 |
6,7 |
7,4 |
-16 (р) |
|
трихомониаз |
318,1 |
214,8 |
125,9 |
62,9 |
26,5 |
24,7 |
-13 (р) |
|
Взято на учет больных с впервые в жизни установленным диагнозом |
|||||||
|
Злокачественные новообразования |
293,7 |
311,1 |
335,7 |
358,1 |
322,6 |
337,0 |
15 |
|
Психические расстройства и расстройства поведения |
83,1 |
67,3 |
52,0 |
42,8 |
34,5 |
36,9 |
-56 |
|
Зарегистрировано случаев заболевания |
|||||||
|
Острый вирусный гепатит В |
42,3 |
8,7 |
2,2 |
1,1 |
0,3 |
0,3 |
-141 (р) |
|
Острый вирусный гепатит С |
21,0 |
4,5 |
2,1 |
1,4 |
0,7 |
0,6 |
-35 (р) |
|
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) |
|||||||
|
Зарегистрировано больных, всего |
54,0 |
164,9 |
261,0 |
397,3 |
575,1 |
583,9 |
11 (р) |
|
Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни |
38,1 |
23,0 |
40,1 |
59,6 |
41,1 |
40,3 |
6 |
|
Источник: данные БУЗ Вологодской области «Медицинский информационно-аналитический центр». |
|||||||
ситуации. Снизилось количество вновь выявленных случаев (в пересчёте на численность населения) активного туберкулёза – на 65% (с 89,8 до 31,1), психических расстройств – на 56% (с 83,1 до 36,9). Особенно впечатляющей стала позитивная динамика в борьбе с острыми вирусными гепатитами В и С: снижение зарегистрированных случаев составило, соответственно, 141 (с 42,3 до 0,3 случая) и 35 (с 21,0 до 0,6) раз. Всё это было в значительной степени обусловлено развитием инструментария выявления и диагностики заболеваний, развитием фармацевтических технологий, пристальным и неусыпным контролем государства за распространением указанных заболеваний.
Заметных успехов в анализируемый период удалось добиться в борьбе с заболеваниями, передающимися преимущественно половым путём (ЗППП). Заболеваемость сифилисом снизилась в 11 раз, трихомониазом – в 13 раз, гонококковой инфекцией – в 16 раз. Выявление причин позитивной динамики требует дополнительных углублённых исследований. Предположительно, позитивную роль сыграли усилия органов власти и медицинских служб, распространение частных медицинских центров, повышение общей и санитарной культуры граждан. Вопрос о минимальной планке заболеваемости в условиях современной России, к достижению которой необходимо стремиться, пока остаётся дискуссионным. Всё ещё имеет место территориальная дифференциация субъектов РФ по распространённости ЗППП, наиболее острая ситуация сохраняется в регионах с низким уровнем социально-экономического развития. Наконец, оперирование обычными, а не стандартизованными показателями заболеваемости связано с некоторыми ограничениями в трактовке их динамики.
Вместе с тем за анализируемый период заметно возросла первичная заболеваемость населения страны сахарным диабетом (в 2,1 раза), болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением (в 3,3 раза), злокачественными новообразованиями (на 15%) и ВИЧ-инфекцией (на 6%). Причины распространения заражений ВИЧ связаны, как правило, с низкой санитарной культурой и ответственностью граждан, недостаточным использованием средств индивидуальной защиты при сексуаль- ных контактах. Рост первичной заболеваемости неинфекционными заболеваниями, вероятно, связан и с демографическими факторами – ростом продолжительности жизни населения с 65,4 до 72,9 года и увеличением доли населения старше 60 лет с 18,5 до 21,3%, а также усилением диагностики болезней.
Параметры заболеваемости существенно различаются и в пространственном измерении, отражая существенные различия между регионами РФ, что также свидетельствует о неправомерности любых обобщений количественных показателей по группам СЗЗ и ЗПОДО в анализе текущей ситуации. Подтверждение нецелесообразности рейтингования субъектов РФ по показателям заболеваемости СЗЗ на основе единого интегрального индекса можно обнаружить в недавно опубликованной работе российских демографов Е.В. Будиловой и Л.А. Миграновой. Субъекты, занявшие в классификационной системе авторов позиции «лидеров» и «аутсайдеров» по относительному количеству лиц, состоящих на учёте в лечебнопрофилактических организациях в связи с поставленным диагнозом (суммарно по ряду СЗЗ), тем не менее демонстрировали широкий разброс в показателях заболеваемости по отдельным причинам (Будилова, Мигранова, 2020).
Присутствие категории «СЗЗ и ЗПОДО» в стратегических документах
На сегодняшний день формализация задач профилактики и минимизации заболеваемости населения социально значимыми заболеваниями чрезвычайно фрагментирована. С одной стороны, актуальность эпидемиологических проблем и важности их решения для будущего страны и благополучия народа отражается в важнейших стратегических документах федерального уровня и уровня субъектов РФ. С другой стороны, обращение к данной категории заболеваний осуществляется вне единой логики и последовательности.
Так, в качестве примера рассмотрим «Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», которая в силу ряда обстоятельств, в том числе объективного характера, не была реализована. К термину «ЗПОДО» авторы документа не обращались, но текст Концепции содержит два упоминания термина
«социально значимые заболевания» – в описании задач и предполагаемых результатов (тематический раздел «2. Развитие здравоохранения»). При конкретизации одной из ключевых задач развития отрасли, а именно «Повышение эффективности системы организации медицинской помощи», указана необходимость «развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи и повышения роли профилактического лечения лиц, состоящих в группе риска по социально значимым заболеваниям». Отмечено, что решение поставленных задач в конечном итоге позволит, помимо прочего, «уменьшить в 1,5 раза заболеваемость социально значимыми заболеваниями». Если первая формулировка, несмотря на некоторые нюансы и возможные уточнения, представляется адекватной, то вторая вызывает существенные проблемы понимания и интерпретации. Конкретизация результата в снижении заболеваемости СЗЗ выглядит необоснованной, поскольку эта категория объединяет 20 нозологических единиц, заболеваний самого различного характера. Если предположить, что значение «1,5», согласно задумке авторов документа, вложивших в плановые значения показателей столь внушительный спад заболеваемости, касалась динамики лишь по ряду заболеваний, то оно не является основанием для признания подобного упрощения и обобщения сколько-нибудь допустимым. Расчёт же среднеарифметических значений показателя заболеваемости по данной группе, чего, впрочем, авторы документа скорее всего и не имели в виду, в целом не только мало информативен, но и методически некорректен.
В тексте актуальной Стратегии национальной безопасности РФ, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400, термины «СЗЗ» и «ЗПОДО» совсем не используются. Это нельзя объяснить исключительно спецификой самого документа, поскольку в нём затрагиваются аспекты вне проблематики международного и геополитического взаимодействия стран, а касающиеся исключительно эпидемиологической безопасности внутри страны. В рамках достижения целей государственной политики в сфере сбережения народа России и развития человеческого потенциала определена задача обеспечения устойчи- вости системы здравоохранения, её адаптации к новым вызовам и угрозам, в том числе связанным с распространением инфекционных заболеваний. В целом в формулировках задач присутствуют исключительно категории «профессиональные заболевания» (1 упоминание) и «инфекционные заболевания» (4 упоминания, из них два сопровождаются уточняющим словом «опасные»), которые обладают значительно меньшей информативностью, чем обсуждаемые здесь термины «СЗЗ» и «ЗПОДО».
В тексте «Единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года», напротив, обнаруживаем максимально конкретизированные источники эпидемиологических угроз – отдельные нозологические единицы из перечня СЗЗ (туберкулёз, гепатит С, ВИЧ-инфекция). Соответственно, и в ряду индикаторов, позволяющих идентифицировать факторы достижения на федеральном уровне национальной цели развития «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» по показателю «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет», фигурируют соответствующие показатели заболеваемости (п. 1.2.3 «Обеспечение устойчивости системы здравоохранения и повышение безопасности населения»)3. Отметим, что неинфекционные социально значимые заболевания присутствуют в п. 1.2.1 «Снижение смертности», но не обозначаются в качестве таковых.
Достижение плановых значений индикаторов по выделенным инфекционным заболеваниям, туберкулёзу, гепатиту С, ВИЧ-инфекции, как и индикаторы смертности от социально значимых неинфекционных заболеваний сердечно-сосудистой системы и новообразований, формализуется государственной программой «Развитие здравоохранения»4. При этом показатели диспансерного наблюдения и лечения закреплены в федеральном проекте «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
Складывается противоречивая ситуация. Состав категорий «СЗЗ» и «ЗПОДО» регламентирован, но обращение к ним и оперирование соответствующей терминологией осуществляется произвольно. В стратегических документах нет примеров того, чтобы постановка задачи по борьбе и профилактике СЗЗ и ЗПОДО осуществлялась последовательно: выделялся бы соответствующий раздел, в котором авторы документов обсуждали бы проблемы или формулировали задачи развития, отталкиваясь от утверждённой структуры и классификации нозологий, пусть и разделяя их на инфекционные и неинфекционные. В действительности же категории «СЗЗ» и «ЗПОДО» могут или попросту игнорироваться, как мы видим в примере со Стратегией национальной безопасности, или расщепляться на ряд нозологических единиц, как в случае «Единого плана». Подобный подход к оперированию категориями значительно снижает информативность документов в данных аспектах и, больше того, саму информационную ценность обсуждаемых терминов.
Государственная программа «Развитие здравоохранения» начинается с актуализации новой эпидемиологической угрозы – СOVID-19, включённой в группу заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также перечисления важнейших причин смертности – болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний, которые, напомним, относятся к категории социально значимых. В самом тексте Программы термин «ЗПОДО» так ни разу и не упомянут, формулировка же «социально значимые заболевания» присутствует в одном его фрагменте, где говорится об успехах борьбы с инфекционными заболеваниями, что является отдельным, но вполне типичным примером той общей непоследовательности в употреблении обсуждаемых терминов, которая присуща практически всем актуальным стратегическим документам в России. Разберём, в чём суть наших замечаний их авторам. В данном фрагменте текста Программы поднимается проблема распространения инфекционных заболеваний, отмечается высокий уровень чуткости власти к этим угрозам, что выражается в разработке вакцин, осуществлении профилактики (при этом конкретные нозологии не называются). Затем сделан резкий переход к обсуждению интересующей нас группы «СЗЗ» словами
«Что касается социально значимых заболеваний, то в 2022 году продолжился рост охвата профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза, он составил 74,2 процента». Мы видим, насколько здесь затрудняется понимание того, какая линия изложения развивается. Далее последовательно и кратко фиксируются основные тенденции распространения и борьбы с ВИЧ-инфекцией и хроническим вирусным гепатитом С. Остальные нозологические единицы практически не получают внимания. Из логики изложения становится ясно, что речь в обсуждаемом фрагменте идёт исключительно об инфекционных социально значимых заболеваниях, о чём в немалой степени свидетельствует ссылка на приложение, в котором регламентируется порядок расчёта субсидий для оказания медицинской помощи гражданам целевой категории. Таким образом, в обсуждении СЗЗ дело часто ограничивается лишь упоминанием ограниченного ряда заболеваний, которые, как мы отметили выше, можно назвать типичными примерами этой группы. Это имело бы основания, если бы подобный подход применялся регулярно и повсеместно, однако в действительности обращение к категории СЗЗ происходит в самых различных вариантах описания, а единая, пусть и спорная, линия использования базовых терминов так и не складывается.
Анализ содержания стратегий социальноэкономического развития регионов России позволил выделить различные варианты использования и самих терминов, и контекстов их применения. Признаем, в большинстве документов категории «СЗЗ» и «ЗПОДО» обходятся вниманием (в качестве примеров из длинного ряда приведём стратегии развития Тюменской, Ярославской, Орловской, Кемеровской областей). Популярной практикой стало рассмотрение таких социально значимых заболеваний неинфекционного характера, как злокачественные новообразования и сердечно-сосудистые заболевания, вне категории «СЗЗ», что само по себе не кажется удивительным. Встречаются и редкие исключения из этого правила (ниже мы обсудим пример стратегии развития Самарской области). По-другому складывается ситуация в отношении туберкулёза. Несмотря на то, что встречаются примеры упоминания этой нозологической единицы вне общей системы СЗЗ и ЗПОДО, она тем не менее прочно ассоциируется с данной категорией.
В Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года находим пример частого обращения к термину «СЗЗ», но анализ контекста каждого из вариантов показывает, насколько оно несистематично5. В одном из них обнаруживается исключительное для общей и упомянутой выше практики уточнение: «…повышение мер по борьбе с социально значимыми заболеваниями, в том числе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями». В другом фрагменте текста Стратегии уточнение делается в пользу других нозологий: «Существенной проблемой региона является высокий уровень распространения социально значимых заболеваний, в частности ВИЧ-инфекции, туберкулеза и наркомании». Далее в документе присутствует пример употребления категории «СЗЗ», который фактически перечёркивает проведённую выше конкретизацию по онкозаболеваниям и болезням сердца и сосудов: «Решение задачи по сокращению уровня смертности и улучшению здоровья населения включает в себя: развитие системы профилактики заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, новообразований, социально значимых болезней, предупреждение факторов их развития». Получается, что в этом случае социально значимые заболевания отделяются от их частных примеров.
Как ещё один образец несистематичности использования категории «СЗЗ» рассмотрим Стратегию социально-экономического развития Вологодской области6. В ряду обозначенных ключевых проблем здравоохранения термин «СЗЗ» не упоминается, но в одном из пунктов выделены отдельные нозологические единицы из обсуждаемых категорий заболеваний: «Высокий риск распространения в регионе онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании, алкоголизма». В задачах же категория «СЗЗ» указана непосредственно, причём с примерами заболеваний и использованием неопределённого словосочетания «и другие»7. Ещё ряд задач ориентирован на профилактику и лечение конкретных групп заболеваний из обсуждаемой категории «СЗЗ» – сердечнососудистых и онкологических. Во-первых, это развитие и внедрение в практику инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также создание основ персонализированной медицины, прежде всего болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний. Во-вторых, увеличение объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи на территории области, в том числе за счет развития региональных сосудистого и онкологического центров. В отдельную задачу выделено снижение распространённости заболеваний наркологического профиля: «Повышение доступности оказания медицинской помощи наркологическим больным, в том числе больным алкоголизмом, внедрение новых методов лечения больных алкоголизмом, повышение качества диагностики». Таким образом, присутствует произвольность использования терминов, прежде всего самой категории «СЗЗ», которые, напомним, имеют закреплённый соответствующим постановлением состав. Нельзя не заметить, что категория «ЗПОДО» и вовсе исключена из соответствующего раздела Стратегии.
В Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года говорится, что реализация приоритетного направления «Повышение эффективности и доступности оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи» обеспечила «существенное снижение заболеваемости алкоголизмом и социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями»8. По поводу этой форму- лировки сделаем два важных замечания. Первое: отделение заболевания «алкоголизм» от категории «СЗЗ» не имеет оснований, поскольку оно входит в её состав. Второе: обобщение успехов реализации указанных мероприятий по обеим категориям, в каждой из которых объединены разнообразные нозологические единицы, безосновательно. Однако сам факт использования так часто игнорируемого термина «ЗПОДО» можно только приветствовать. В этом же документе встречается попытка уточнить содержание категории «СЗЗ», когда в качестве меры по повышению эффективности и доступности оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи фиксируется совершенствование организации медицинской помощи больным с социально значимыми заболеваниями. В скобках указываются конкретные группы заболеваний: «системы кровообращения, новообразования, туберкулез, ВИЧ-инфекция, сахарный диабет, вирусные гепатиты, наркологические расстройства и другие». Несмотря на важную и нечастую для аналогичных документов попытку конкретизировать состав этого понятия, а значит и направлений развития, выглядит она в подобном контексте чрезвычайно неубедительно. Дело в том, что специализированная и высокотехнологическая медицинская помощь представляет собой особый и сложный вид оказания услуг в соответствии со строгими протоколами и сопутствующими порядками регламентации, поэтому обобщение в качестве целевой столь широкой категории заболеваний (исключительно по признаку того, что заболевание включено в её состав) представляется нецелесообразным.
Встречаются случаи использования терминов вне их строгого значения, например формулировка «наиболее социально значимые заболевания» (Стратегия социально-экономического развития Псковской области9). Здесь слово «наиболее» указывает скорее на широкий и оценочный контекст, чем на строгую формализованную основу термина. Более того, в пользу этого свидетельствует чрезвычайно рас- пространённое в текстах стратегий употребление термина «социально значимые» в отношении самых различных объектов. Приведём лишь некоторые из них: «социально значимые инициативы», «социально значимые проекты», «социально значимые мероприятия», «социально значимые категории населения», «социально значимые маршруты», «социально значимые задачи» и «социально значимые патриотические ценности», «социально значимые продовольственные товары», «социально значимые учреждения» и т. д. Использование в ряде стратегических документов уровня субъекта РФ таких сокращённых терминов, как «социальные заболевания» (обнаружены в тексте Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай до 2035 года) и «опасные заболевания» (в тексте Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2030 года), затрудняет понимание того, о каких именно нозологиях идёт речь. Это, на наш взгляд, сыграло не последнюю роль в превращении термина «социально значимые заболевания» в своего рода лексический штамп.
В целом использование категорий «СЗЗ» и «ЗПОДО» в стратегических документах становится малоинформативным и чаще всего решает задачу постановки общей проблемы заболеваемости населения и профилактики. Причины этого состоят и в чрезвычайной наполненности и сложном составе нозологических групп, и в отсутствии системного подхода к трактовке обсуждаемых категорий со стороны как органов власти, так и нередко – представителей профессионального сообщества. То, насколько это действительно актуальная и вместе с тем сложная в разрешении проблема, показывает опыт реализации в период с 2006 по 2012 год отдельной федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007–2012 годы)», принятой Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2007 года, целью которой было «снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях, увеличение продолжительности и качества жизни людей, страдающих этими заболеваниями». Тот факт, что программа включала в себя конкретные подпрограммы, затрагивающие мероприятия по отдельным нозологиям («Сахарный диабет», «Туберкулёз», «Онкология», «Инфекции, передаваемые половым путем», «Вирусные гепатиты», «Артериальная гипертония», «Психические расстройства»), не отменяет целого ряда вопросов относительно причин исключения из состава документа ряда нозологий и, напротив, включения в его состав заболеваний, которые формально не относятся к категории «СЗЗ».
Заключение
Исследование категорий «социально значимые заболевания» и «заболевания, представляющие опасность для окружающих», вызывает интерес не только с точки зрения эпидемиологии, но и с более общих позиций – возможностей, которые предоставляет их мониторинговая оценка, качества государственного управления, решения задач национальной безопасности и пр. Это связано с тем, что распространённость ключевых социально значимых заболеваний служит надёжным признаком социального неблагополучия, включая низкий уровень жизни, неудовлетворительное питание, суровые условия проживания и быта (туберкулёз), или, напротив, распространение заболевания является основанием для прогнозирования высоких демографических и в целом экономических потерь. Неслучайно задачи профилактики социально значимых заболеваний отражаются в Стратегии национальной безопасности РФ. Вместе с тем нельзя не обнаружить связанные с этим проблемы как методологического, так и инструментального характера. Проведённый в работе анализ стратегий социально-экономического развития, принятых на уровне субъектов РФ, наглядно демонстрирует сложности оперирования нормативно закреплёнными терминами «СЗЗ и ЗПОДО» при актуализации проблем и разработке мер по выявлению, профилактике и борьбе с заболеваниями из официальных перечней. Обсуждаемый ряд заболеваний довольно широк, но, что самое главное, чрезвычайно разнообразен и неоднороден. Он включает как инфекционные (туберкулёз, ВИЧ, гепатит, ЗППП), так и неинфекционные (психические расстройства) заболевания, из чего следует принципиальное различие в выборе стратегий профилактики и контроля распространения этих заболеваний); заболевания, обусловлива- ющие высокий риск смертности (злокачественные заболевания, болезни, характеризующиеся повышенным артериальным давлением), и заболевания, негативным следствием которых является не столько летальность, сколько инвалидность и снижение качества жизни населения (сахарный диабет) или временная, но, в силу пандемийного характера распространения, широкая временная нетрудоспособность граждан страны (COVID-19), актуальные заболевания (гепатит) и те, которые на сегодняшний день практически побеждены (чума). С одной стороны, категория «СЗЗ и ЗПОДО» имеет строгое нормативное подкрепление, она включена в систему государственных обязательств и декларируемых государством социальных гарантий (предоставление льгот, ограничения при трудоустройстве или службе в вооружённых силах и пр.). С другой стороны, в практике государственного управления, как на отраслевом, так и на территориальном уровне, и стратегического планирования возникают серьёзные проблемы с применением категорий «СЗЗ» и «ЗПОДО», особенно в постановке задач развития, формулировке мероприятий по их разработке и реализации. Проблема осложняется тем, что заболевания из данной группы существенно отличаются друг от друга остротой эпидемиологической ситуации и эффективностью противостояния их распространению. Например, заболеваемость по одной нозологической единице демонстрирует тенденцию роста, тогда как в отношении распространённости среди российского населения другой может фиксироваться существенное снижение, что само по себе исключает целесообразность их обобщения для актуализации научно-прикладных исследований и реализации мер противодействия их распространению. Примеры подобной дихотомии в динамике показателей заболеваемости СЗЗ и ЗПОДО приведены и описаны в настоящей статье. Всё сказанное обусловливает дискретный и спорадический характер использования самой категории «СЗЗ и ЗПОДО». Чаще всего наблюдается дробление на нозологические единицы, что если и не девальвирует саму категорию, то снижает её аналитическую ценность в контексте стратегического планирования и реализации государственных программ.
На основании приведённых аргументов следует сделать вывод о необходимости более продуманного и последовательного применения категорий в документах стратегического планирования социально-экономического развития России и её регионов. Мы не говорим об исключении категории «СЗЗ и ЗПОДО» из аналитических сводок и документов стратегического характера. Напротив, социально значимые заболевания и заболевания, представляющие опасность для окружающих, для этих целей подходят как нельзя лучше. Необходимо ответственно подходить к их использованию. Так, при обращении к категории «СЗЗ» следует приводить сопутствующие методические комментарии и уточнения, прежде всего о том, какие конкретно нозологии имеются в виду. Наилучшим решением будет посвящение этим группам заболеваний отдельных разделов, в которых будут уместны актуализация проблематики по категориям (например, инфекционные и неинфекционные заболевания с дальнейшей конкретизацией по нозологических единицам) и последующая детализация оценки, формулировка задач и, самое важное, конкретных мероприятий и предполагаемых итогов их реализации.
Список литературы Проблема концептуализации категории «социально значимые заболевания» в стратегическом управлении
- Бояркина С.И. (2019). Детерминанты социально значимых болезней в странах Европы и в России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология. Т. 12. № 4. С. 350–367. DOI: 10.21638/spbu12.2019.404
- Будилова Е.В., Мигранова Л.А. (2020). Распространение социально значимых болезней и борьба с ними в России // Народонаселение. Т. 23. № 2. С. 85–98. DOI: 10.19181/population.2020.23.2.8
- Васильев А.П., Стрельцова Н.Н. (2018). Алкоголь и сердце // РМЖ. Т. 1. № 2. С. 82–85.
- Звонов А.В., Яковлев А.А. (2020). О перечне социально значимых заболеваний, имеющих уголовно-правовое значение // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. Т. 23. № 1. С. 63–67.
- Кувшинников О.А., Рыбальченко С.И., Шестакова Т.Е. (2023). Укрепление общественного здоровья – приоритет государственной региональной политики // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 16. № 5. С. 32–48. DOI: 10.15838/esc.2023.5.89.2
- Лещенко Я.А., Лисовцов A.A., Базяева М.А. (2022). Эпидемиологическая характеристика социально значимых инфекционных болезней как индикатор качества жизни населения // Acta biomedica scientifica. Т. 7. № 2. С. 292–303. DOI: 10.29413/ABS.2022-7.2.29
- Орлов И.Б. (2009). «Болезнь Венеры»: пережиток «проклятого прошлого», или «изнанка» индустриализации? // Повседневный мир советского человека 1920–1940-х гг.: сб. науч. ст. Ростов-на-Дону: ЮНЦ РАН. С. 339–348.
- Петросян Т.Р., Шахмарданов М.З. (2018). ВИЧ-инфекция и наркопотребление // Эпидемиология и инфекционные болезни. Т. 23. № 2. С. 60–67. DOI: 10.18821 /1560-9529-2018-23-2-60-67
- Семёнов В.Ю., Гуров А.Н., Смбатян С.М. (2011). Принципы стратегического управления системой профилактики социально опасных заболеваний в Московской области // Менеджмент в здравоохранении. № 7. С. 6–13.
- Хроническая обструктивная болезнь легких как социально значимое заболевание (2019) // Эффективная фармакотерапия. № 15 (7). С. 54–60.
- Шугаева С.Н., Орыщак С.Е., Савилов Е.Д. (2022). Тенденции и взаимосвязи заболеваемости туберкулезом в пенитенциарной системе // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. Т. 21. № 4. С. 89–94. DOI: 10.31631/2073-3046-2022-21-4-89-94
- Ginocchio C. C., Chapin K., Smith J. S., Aslanzadeh J., Snook J., Hill C. S., Gaydos C.A. (2012). Prevalence of Trichomonas vaginalis and Coinfection with Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae in the United States as Determined by the Aptima Trichomonas vaginalis Nucleic Acid Amplification Assay. Journal of Clinical Microbiology, 50(8). DOI: https://doi.org/10.1128/JCM.00748-12.
- Jilani T.N, Avula A., Gondal A.Z., Siddiqui A.H. Active Tuberculosis. (2023). StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. PMID: 30020618.
- MacPherson P., Lebina L., Motsomi K., Bosch Z., Milovanovic M., Ratsela A., Lala S., Variava E., Golub J.E., Webb E.L., Martinson N.A. (2020). Prevalence and risk factors for latent tuberculosis infection among household contacts of index cases in two South African provinces: Analysis of baseline data from a cluster-randomised trial. PloS One, 15(3),230–376. DOI: 10.1371/journal.pone.0230376.
- Ni M. Y, Leung C. MC, Leung G. M. The epidemiology of population mental wellbeing in China. The Lancet. Public health. 5(12), 631–632, DOI: https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30265-6
- Peters D. H., Garg A., Bloom G., Walker D. G., Brieger W. A., Rahman M. H. (2008). Poverty and Access to Health Care in Developing Countries. Annals of the New York Academy of Sciences, 1136, 161–171. DOI: 10.1196/annals.1425.011
- Rasanathan K., Kurup A. S., Jaramillo E., Lönnroth K. (2011). The social determinants of health: key to global tuberculosis control. International Journal Tuberculosis Lung Disease, 15(6), 30–36. DOI: 10.5588/ijtld.10.0691.
- Solar O., Irwin A.A. (2010). Conceptual framework for action on the social determinants of health. Social Determinants of Health Discussion. Paper 2 (Policy and Practice). Debates, policy & practice, case studies. Jeneva: WHO.
- Van Der Pol B. (2016). Clinical and Laboratory Testing for Trichomonas vaginalis Infection. J Clin Microbiol, 54(1), 7–12. DOI: 10.1128/JCM.02025-15
- Von Heimburg D., Prilleltensky I., Ness O., Ytterhus B. (2022). From public health to public good: Toward universal wellbeing. Scand J Public Health, 50(7), 1062–1070. DOI: 10.1177/14034948221124670