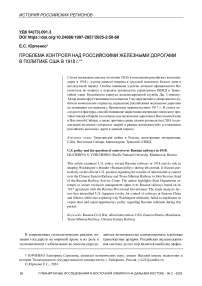Проблема контроля над российскими железными дорогами в политике США в 1918 г.
Автор: Юрченко Е.С.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: История российских регионов
Статья в выпуске: 2 (72), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу политики США в отношении российских железных дорог в 1918 г. и роли данного вопроса в «русской политике» Белого дома в исследуемый период. Особое внимание уделено позиции официального Вашингтона по вопросу о передаче руководства управлением КВЖД и Транссибом главе Российского корпуса железнодорожной службы Дж. Стивенсу. Автор акцентирует внимание на попытках Государственного департамента добиться монопольного права на управление российскими железными дорогами на основании соглашения с Временным правительством 1917 г. В статье исследуются факторы, способствовавшие нарастанию американо-японского противостояния в борьбе за контроль над железными дорогами в Восточном Китае и Восточной Сибири, а также причины срыва планов руководства США по реализации политики «открытых дверей и равных возможностей» в отношении российских железных дорог в данный период.
Гражданская война в России, иностранная интервенция, США, Восточная Сибирь, Маньчжурия, Транссиб, КВЖД
Короткий адрес: https://sciup.org/170209475
IDR: 170209475 | УДК: 94(73).091.3 | DOI: 10.24866/1997-2857/2025-2/50-60
Текст научной статьи Проблема контроля над российскими железными дорогами в политике США в 1918 г.
В современных геополитических реалиях позиции государств на мировой арене и их роль в экономической глобализации во многом опреде- ляются возможностью контролировать ключевые транспортные артерии. Российская железнодорожная система до сих пор является наиболее эффек- тивным средством обеспечения бесперебойного грузопотока на евразийском пространстве. Ее экономическое, политическое и военно-стратегическое значение в последние годы неуклонно возрастает. Обращение к истории борьбы американского государства за контроль над КВЖД и Транссибом в 1918 г. позволяет выявить значение железнодорожного вопроса в планах США добиться глобального доминирования в первой четверти ХХ в., а также влияние данного фактора на характер политики Белого дома в отношении России, Китая и Японии в указанный период.
Несмотря на неизменно высокий исследовательский интерес к истории российско-американских отношений в первой четверти ХХ в. железнодорожный аспект «русской политики» Вашингтона до сих пор не стал предметом специального исследования в отечественной литературе. Советские и российские авторы в большинстве своем обращались к данной проблеме в контексте общего анализа характера американской интервенции и истории борьбы между США и Японией за сферы влияния в регионе. Отечественные специалисты отмечают особую роль, которая отводилась железным дорогам в планах США по экономической экспансии в Сибири и на Дальнем Востоке [7, с. 139]. В исследованиях по истории Гражданской войны в регионе подчеркивается, что в вопросах эксплуатации железных дорог американские представители в России не только не принимали во внимание позицию российских властей, но зачастую оказывали им открытое противодействие [9, с. 111-113].
Американская историография уделяет этой проблеме больше внимания. Отдельные работы посвящены деятельности Российского корпуса железнодорожной службы и личности Дж.Ф. Стивенса [11; 13; 15; 18]. Авторы акцентируют внимание на тех факторах, которые не позволили реализовать задачи, возложенные на служащих корпуса. Особенно подчеркивается стремление американских специалистов дистанцироваться от политического противостояния в России. При этом американская историческая литература рассматривает борьбу американского государства за контроль над железными дорогами как часть политики «открытых дверей и равных возможностей» в Китае. В центре внимания американских специалистов - борьба между США и Японией за КВЖД. Исключением является работа Д. Дэвиса и Ю. Трани, в которой проблема контроля над российскими железными дорогами рассматривается как часть неолиберальной внешнеполитической программы Вильсона, предусматривавшей распространение принципа «открытых дверей и равных возможностей» и на Россию [3].
Отправной точкой активной железнодорожной политики США в регионе стала русско-японская война 1904-1905 гг. [18, р. 35]. По ее итогам Япония получила контроль над южной частью КВЖД, которая тут же была переименована в Южно-Маньчжурскую железную дорогу. В 1905 г. президент Южно-Тихоокеанской транспортной компании Э.Г. Гарриман предложил план создания всемирной железнодорожно-пароходной сети. Он полагал, что это даст США существенные преимущества на европейском и азиатском рынках. Сеть должна была охватывать Японию, Маньчжурию и Европейскую Россию. Для осуществления этого плана необходимо было содействие Японии и России. Гарриман сумел добиться от японского премьера Кацуры заключения договора о передаче Южно-Маньчжурской дороги под управление американцев. Договор предусматривал создание банковского синдиката, в котором половина акций должна была принадлежать американцам. Однако соглашение так и не вступило в силу. Японское правительство не захотело уступать свои позиции в Маньчжурии, стремясь к расширению влияния в Китае в целом. Транссиб и КВЖД, соединявшие регион с Центральной Азией и Европой, принадлежали Российской империи, которая также не желала уступать конкурентам.
Вплоть до 1917 г. правительству США не удавалось добиться существенных сдвигов в продвижении своих интересов в отношении железных дорог. Ситуация радикально изменилась после революции 1917 г. в России и вступления США в Первую мировую войну. Руководство официального Вашингтона сумело заключить соглашение с Временным правительством об отправке американской консультативной комиссии из железнодорожных экспертов, которые должны были изучить ситуацию на российских железных дорогах. Комиссия прибыла во Владивосток в первой половине июня 1917 г. Ее члены проследовали через Сибирь в специальном поезде, предоставленном российской железнодорожной администрацией. Они изучили не только состояние Транссиба, но и железнодорожное сообщение в Мурманске, Архангельске и Донецком регионе. Затем члены миссии вернулись в Соединенные Штаты, за исключением Джона Стивенса. Он остался и был принят в Министерство путей сообщения в качестве спе- циального советника. По предложению Стивенса был организован Российский корпус железнодорожной службы, состоящий из американских железнодорожных инженеров, которые покинули Соединенные Штаты 1 ноября 1917 г. [15]. Предполагалось, что американские железнодорожники будут назначены в качестве консультантов на различных участках Транссибирской магистрали. Станция Владивосток была передана под управление Стивенса. Характерно, что добровольцы под командованием бывшего управляющего Северной железнодорожной компанией Дж. Эмерсона, поступившие на службу в железнодорожный корпус, были уверены, что являются военнослужащими армии США. Они прошли военную подготовку. Сам Эмерсон получил звание полковника. Однако Государственный департамент с момента отправки корпуса настаивал, что они гражданские специалисты на службе Временного правительства. Финансирование корпуса осуществлялось Временным правительством за счет ссуды, предоставленной США [13]. Смена власти в России в ноябре 1917 г. не позволила реализовать это соглашение. Судно «Томас», на борту которого находился железнодорожный корпус, прибыло во Владивосток 14 декабря 1917 г. Однако из-за неопределенности политической ситуации вскоре было принято решение перебазироваться в японский порт Нагасаки.
С началом в России Гражданской войны железнодорожный вопрос стал фактором внутриполитической борьбы и одним их наиболее значимых аспектов международных противоречий. Япония сделала ставку на поддержку антибольшевистских сил на Востоке страны. Японские представители стали оказывать материальную поддержку атаману Г. Семенову. В начале 1918 г. британский Форин офис направил в Белый дом меморандум, в котором настаивал, что необходимо дать японцам возможность занять Транссиб ради улучшения снабжения русских армий во время войны [16, p. 153–155]. Однако руководство США воспринимало любые шаги, набавленные на расширение японского присутствия в регионе, как угрозу американским национальным интересам. Позволить Японии взять под контроль российские железные дороги означало бы содействовать ее доминированию в Северо-Восточной Азии. Зимой 1918 г. президент В. Вильсон и члены его правительства единодушно выступили против отправки японских военных в Сибирь и передачи им управления железными дорогами [16, p. 215, 219, 445].
Как советник Министерства путей сообщения Российской империи Дж. Стивенс в феврале 1918 г. попытался добиться разрешения на переброску американского железнодорожного корпуса в Харбин от управляющего КВЖД генерала Д.Л. Хорвата. После смены власти в Петрограде Хорват сохранил свой пост. Назначение на эту должность осуществлялось совместно министром финансов Российской империи и правлением Русско-Азиатского банка. В условиях отсутствия признанного правительства и нового министра, которого еще и поддержало бы правление банка, формально заменить генерала на этом посту никто не мог [6]. Генерал Хорват возглавил созданный в феврале 1918 г. в Харбине Дальневосточный комитет активной защиты Родины и Учредительного собрания. Он первым заявил о своих претензиях на верховную власть и начал объединять вокруг себя право-монархические силы. Хорват рассчитывал на финансовую и военную поддержку союзников, но не желал допускать американцев к управлению железными дорогами. Он вызывал неприязнь как у американских представителей в Китае, так и у членов американского правительства. В докладе, подготовленном сотрудниками Госдепартамента для президента в апреле 1918 г., подчеркивалось: генерал Хорват, «служака старого режима, человек державных взглядов, который озадачен тем, как возродить в крестьянстве любовь к царю» [16, p. 397–399]. Поддержка Хорвата и Семенова японцами усугубила негативное отношение Вашингтона к «клике Хорвата». Российский посол в Вашингтоне Б.А. Бахметев в конце августа 1918 г. отмечал, что Хорват не вызывает у американцев «ни симпатий, ни веры в его способность выражать настроение России и ответить на ее насущные желания» (Государственный архив Российской Федерации, далее – ГАРФ. Ф. 10003. Оп. 3. К. 96. Р. 7). Тем не менее, вопрос о переброске американских железнодорожников был согласован. 110 американских железнодорожных инженеров были отправлены на Китайско-Восточную железную дорогу. Еще около 90 человек отбыли в апреле 1918 г. во Владивосток.
По мере развития гражданской войны в России все более очевидным становилось, что взять под свое управление железные дороги можно будет лишь при наличии достаточного военного контингента. Вопрос об участии в интервенции стал центральным аспектом русской политики Вашингтона в первой половине 1918 г. [3, c. 281]. Восстание чехословацкого корпуса в июне 1918 г.
изменило расстановку сил. Большая часть Транссиба оказалась под контролем чешских войск. В конце июня чехи были во Владивостоке. У руководства США появилась возможность присоединиться к интервенции, не нарушая принципа невмешательства во внутриполитическую борьбу в России. Однако оставался нерешенным вопрос о масштабах военного присутствия и характере взаимодействия с японскими войсками. Правительство Японии намеревалось закрепить за собой ведущую роль в интервенции на Дальнем Востоке и в Сибири. С этой целью оно добивалось согласия США на передачу общего командования союзными войсками в регионе японскому представителю и увеличение численности японских войск до 12 000. В июне–июле 1918 г. эти проблемы стали предметом напряженных японо-американских переговоров. В конце июля США согласились предоставить воинский контингент в 7 000 чел. для помощи в эвакуации чехословаков и защиты линии коммуникаций [16, p. 542]. В начале августа 1918 г. Госдепартамент подтвердил, что США не намерены нарушать территориальную целостность России или вмешиваться во внутриполитические дела страны [8, c. 297].
Американский военный контингент должен был сыграть роль фактора силы, которая бы укрепила положение Дж. Стивенса и его коллег. В инструкциях, которые получил командующий американским экспедиционным корпусом генерал-майор У. Грейвс от президента, подчеркивалось, что войска должны сосредоточиться на защите железных дорог и не вмешиваться во внутриполитическую борьбу в России. 10 августа американские железнодорожники, следовавшие из Нагасаки на российском судне «Симбирск», высадились во Владивостоке. Стивенс разослал своих людей по различным участкам железной дороги, расположенным в районах, где были наименее сильны революционные настроения. Сначала только вдоль Китайско-Восточной железной дороги. По мере того, как начали прибывать войска союзников, чтобы обеспечить охрану военнослужащих Корпуса, протяженность трассы, переданной в ведение Железнодорожного корпуса, была распространена до Омска. По воспоминаниям участников экспедиции, наибольшие трудности в работе им создавали представители русской администрации, которые рассчитывали на финансовую и техническую помощь, но упорно противодействовали любым изменениям в системе организации и управления [14]. Считая русских управлен- цев коррумпированными и некомпетентными, американские специалисты так и не смогли наладить с ними сколь-нибудь эффективное взаимодействие.
Несмотря на достигнутое с правительством Японии соглашение о совместном участии в интервенции, вопросы о взаимодействии и полномочиях американских и японских военных решены не были. 18 августа командующий японским контингентом генерал Отани опубликовал императорский приказ, в соответствии с которым он назначался командующим не только японскими войсками, но и войсками союзников на Дальнем Востоке. Однако прибывший в начале сентября во Владивосток У. Грейвс заявил, что не имеет никаких распоряжений на этот счет. Настроенный первоначально на сотрудничество с японскими военными, Грейвс вскоре убедился в их намерении не позволить американцам закрепиться на железных дорогах. Будучи вовлеченным в постоянные конфликты с казачьими атаманами, за спиной которых стояли японские военные, Грейвс быстро проникся антияпонскими настроениями. Как и Стивенс, он был убежден в том, что Япония реализует план по захвату региона [2].
В августе 1918 г. японское правительство предложило китайским властям изменить ширину колеи путей КВЖД, чтобы они соответствовали стандартам Южно-Китайской железной дороги. Подобная инициатива вызвала протест со стороны США. Государственный секретарь Р. Лансинг заявил, что изменение колеи привело бы к параличу всей транспортной системы. Американское руководство настаивало на том, что соглашение с Временным правительством 1917 г. предполагает передачу фактического контроля и управления всем железнодорожным сообщением американским специалистам под единоличным руководством Стивенса. Япония расценивала это как попытку захвата американцами российских железных дорог. Кроме того, японские власти предложили включить Дж. Стивенса в состав американской армии. Однако официальный Вашингтон настаивал, что глава американской железнодорожной миссии является гражданским специалистом и легитимным представителем интересов России, поскольку был назначен Временным правительством и фактически «от имени русского народа получил общее руководство Транссибирской и Китайско-Восточной железными дорогами и несколькими их ответвлениями» [12, p. 240]. В действительности служащих корпуса передали в подчинение американским военным . Они были вооружены, осу-
ИСТОРИЯ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ ществляли охрану железных дорог. Однако для правительства США вопрос о невоенном статусе железнодорожников имел принципиальное значение. Также Госдепартамент попытался воспользоваться ситуацией для того, чтобы добиться отставки Хорвата и передать его полномочия Стивенсу. Японская сторона летом 1918 г. выступила против отстранения генерала от управления КВЖД [12, p. 253].
3 сентября посол США в Японии Р.С. Моррис встретился с японским министром иностранных дел С. Гото чтобы обсудить американские предложения. По словам министра, существовали серьезные препятствия на пути реализации американских предложений, поскольку совет союзников во Владивостоке уже решил взять железные дороги под свой контроль. Посол возразил, что при всем желании совета военных сил для того, чтобы осуществить подобное, у союзников нет. «Я подчеркнул тот факт, что Стивенс и его коллеги были не представителями какой-либо внешней силы, а наемными работниками на службе российского народа», – писал Моррис в отчете Лансингу [12, p. 242].
Стремление союзников воспользоваться отсутствием в России признанной власти для реализации собственных планов ставило под угрозу интересы США. Особенно важно было не допустить раздела железнодорожной системы на отдельные участки, подконтрольные разным государствам. Из Китая поступала информация о том, что японцы настоятельно убеждают Хорвата передать управление КВЖД им [12, p. 248]. В начале сентября 1918 г. Дж. Стивенс, находившийся во Владивостоке, сообщил, что японское командование отдало приказ о передаче железных дорог под контроль японских военных. По мнению главы американской железнодорожной миссии, это означало попытку японцев утвердиться на железных дорогах. Он настаивал, что «если американцы не поторопятся, то останутся не у дел» [12, p. 234]. Это сообщение всерьез обеспокоило Белый дом, и Лансинг поручил Моррису обратиться за разъяснениями к японскому правительству [12, p. 242– 243]. Посол немедленно связался с министром иностранных дел С. Гото и послом Японии в США виконтом К. Исии. Оба заявили, что имеет место какое-то недоразумение, поскольку не было никаких решений и соответствующих приказов. Министр уверил посла, что отправит немедленно запрос во Владивосток. Вся эта ситуация создала у Морриса впечатление, что «японский Генераль- ный штаб проводит определенную политику в Сибири, оставляя Министерству иностранных дел и виконту Исии задачу объясняться после» [12, p. 246]. Гото заявил Моррису, что приложит все усилия, чтобы лишить военный совет союзников во Владивостоке права принимать решения по железным дорогам [12, p. 247].
Ни сам Моррис, ни руководство США в тот период не имели представления, о каком военном совете союзников идет речь. 17 сентября 1918 г. президент Вильсон направил Лансингу телеграмму, в которой попросил «навести справки у правительств Великобритании, Франции и Италии о том, что представляет собой так называемый Союзный военный совет во Владивостоке, из кого он состоит и по чьему поручению он был сформирован и действует, одновременно уведомив, что США не признают полномочий такого органа» [10, p. 386]. Послу Р.С. Моррису было поручено разъяснить позицию США не только японскому правительству, но и союзникам во Владивостоке, куда он направлялся с целью повлиять на ситуацию [12, p. 246].
Американская дипломатия настаивала, что ни большевистское движение, ни присутствие международной военной помощи в Сибири или в Маньчжурии не изменяют ранее существовавшие права России или Китая. Госдепартамент постоянно подчеркивал, что американские железнодорожники фактически находятся на службе России. Целью их пребывания является лишь обеспечение эффективной работы транспортной системы. 13 сентября 1918 г. в американские посольства в Лондоне, Париже, Риме и Токио было направлено официальное обращение Белого дома. Дипломатам поручалось донести до правительств, «что г-н Джон Ф. Стивенс – председатель Железнодорожной консультативной комиссии в России и официальный советник Министерства путей сообщения России, должен обеспечить эффективную эксплуатацию различных участков Транссибирской магистрали и ее ответвлений при содействии американских инженеров на службе России, известных как Российский корпус железнодорожной службы, совместно с российскими железнодорожными чиновниками и персоналом и в сотрудничестве с союзниками». В обращении особо подчеркивалось, что правительство Соединенных Штатов отказывается от какой-либо цели получить контроль над железными дорогами России. «Железнодорожный корпус будет продолжать содержаться за счет российских средств, которыми распоряжает- ся посол России в Вашингтоне, до тех пор, пока их служба не будет либо продолжена, либо прекращена признанными властями России», – подчеркивалось в документе [12, p. 252].
Прибыв 17 сентября во Владивосток, Моррис встретился со Стивенсом. Они, обсудили ситуацию и пришли к мнению, что можно найти компромисс с японцами, назначив Стивенса генеральным директором с полномочиями по управлению всей системой, а генералу К. Отани поручить охрану железных дорог. Моррис был уверен, что представители Англии и Франции не будут возражать. 18 сентября посол США во Франции У. Шарп подтвердил, что французское правительство поддержит такой план [12, р. 259–260]. Ответ из Лондона был получен в начале октября. Англичане подчеркнули, «что в сложившихся обстоятельствах правительство Его Величества предпочло бы, чтобы правительства Соединенных Штатов и Японии урегулировали вопрос о фактическом контроле между собой» [12, p. 259–272].
Государственный департамент 23 сентября уведомил Морриса, что российские послы в Вашингтоне и Пекине, китайские власти, а также представитель чехословаков Т. Масарик полностью поддерживают план, в соответствии с которым Стивенсу будет передан полный контроль над эксплуатацией Восточно-Китайской и Транссибирской железных дорог под военной защитой. Конкретизировать, чьи именно войска должны осуществлять эту защиту, Лансинг не стал. Российский посол в Вашингтоне Б.А. Бахметев поддержал план американского руководства, при условии, что Стивенс будет считаться агентом на службе российского правительства и его деятельность не приведет к нарушению действующих соглашений и прав России в отношении Транссибирской магистрали и КВЖД [12, p. 266].
Для представителей антибольшевистских сил железнодорожный вопрос стал значимым фактором в борьбе за власть. В Омске в конце июня было сформировано Временное Сибирское правительство во главе с П.В. Вологодским. Он прибыл во Владивосток в конце сентября и неоднократно встречался с Р.С. Моррисом, генералом У. Грейвсом и Дж. Стивенсом, чтобы добиться официальной поддержки. Но правительство США придерживалось политики непризнания по отношению ко всем противоборствующим группировкам в России. Моррис категорично отказался обсуждать этот вопрос [1, c. 91]. Позднее во Владивосток прибыл бывший глава Временного правительства князь Г.Е. Львов. Они вместе с Вологодским еще раз посетили Морриса. Оба настаивали, что «просят не о признании, а лишь о возможности предпринять какую-либо формальную инициативу, которая показала бы поддерживающим их элементам, что Стивенс действует с их ведома и согласия и, таким образом, пользуется поддержкой единственного существующего органа общественного мнения в Сибири». В своих воспоминаниях Вологодский сетовал на то, что Морриса интересовал лишь железнодорожный вопрос: «Разговор с ним в присутствии инженера Стивенса свелся к организации управления всеми путями сообщения Сибири для установления их большей паровозоспо-собности, продолжался 3 ½ часа, а свелся ни к чему» [1, c. 95]. Отчитываясь перед коллегами о результатах поездки, он доложил, что первоначально американцы намеревались взять дороги под свое полное управление, заменив весь русский аппарат. Но после переговоров с Л.А. Устру-говым смягчили условия, намереваясь «оставить служебный аппарат прежним, лишь пополнив его американцами, и сохранить лишь контроль Америки над русскими железными дорогами» [5, c. 22]. Для Вологодского, как и для большинства его коллег, на тот момент имело значение лишь признание, которое бы укрепило позиции правительства. Американский посол к подобным обращениям относился скептически, полагая, что «политическая ситуация не сулит постоянного успеха ни одному конструктивному движению». Он считал, что «появление союзных войск вселило надежду в бывших чиновников, гражданских и военных, что теперь они вернут себе власть и влияние, которые имели до революции» [12, p. 271].
Американцы настойчиво добивались отстранения от управления Хорвата и Устругова. В своих отчетах в Вашингтон Моррис прямо заявлял, что претензии на единоличное руководство Транссибом Устругова не обоснованы и «их можно игнорировать». В отсутствие сильной власти в России согласие российских представителей виделось формальностью. Однако бесцеремонные попытки американцев взять под свой контроль управление вызывали отторжение и непонимание со стороны российских представителей. По словам Морриса, во время своих бесед с русскими он всячески старался «рассеять преобладающие подозрения» о попытках «украсть железную дорогу» [12, p. 269]. В конце сентября Моррис и Стивенс вместе встретились с Хорватом. Американцы представили ему план, в соответствии с которым главы военных миссий союзников возьмут на себя охрану железных дорог и назначат Стивенса генеральным директором. В то же время будет создан консультативный комитет союзников, состоящий из одного представителя от каждой державы, направившей войска в Сибирь, а председателем этого комитета будет русский. Предполагалось, что Стивенс будет регулярно отчитываться перед этим комитетом и консультироваться с ним, но фактическое управление останется полностью в его руках. Посол был уверен, что Хорват поддержит данный план. 3 октября Моррис получил телеграмму от Лансинга с поздравлениями, его предложения были одобрены президентом. Посол планировал отправиться на запад по Транссибу, чтобы лучше ознакомиться с условиями. Однако уже 4 октября был вынужден доложить в Вашингтон, что «прогресс в переговорах по железной дороге приостановился». Внезапно английские и японские представители во Владивостоке заявили, что не могут действовать, поскольку не получали соответствующих приказов от своего руководства [12, р. 272]. Фактором, повлиявшим на позицию союзников, стала консолидация белого движения. В конце сентября была создана Уфимская директория, объявившая себя временным всероссийским правительством. Хорват стал представителем директории на Дальнем Востоке, его поддержали японские и английские представители. Военным министром нового правительства стал А.В. Колчак. Признавать директорию США не собирались. Однако игнорировать позицию русских властей стало труднее.
Еще одним значимым фактором стала смена правительства в Японии. В результате политического кризиса был сформирован новый кабинет, который возглавил лидер ведущей парламентской партии Хара Такаси. Японское руководство выдвинуло план, в соответствии с которым русские под руководством японских советников управляли бы линией от Чанчуня до Харбина и от Харбина до Карымской. Американцы выступили категорически против, заявив, что делить управление нельзя. Моррис был вынужден срочно вернуться в Токио, чтобы обсудить проблему с новым министром иностранных дел Японии Я. Утида [12, р. 273]. Американский дипломат должен был найти компромиссное решение, которое поддержали бы японские и американские власти. Он прислал в Вашингтон план по эксплуатации дорог, который, по его словам, был согласован с Хорватом, Уструговым и влас тями Восточного Китая. Пред- полагалось, что руководство железными дорогами в регионах, в которых действовали союзные войска, будет осуществляться специальным межсоюзническим комитетом, который должен состоять из представителей каждой державы, включая Россию, имеющей вооруженные силы в Сибири, и председателем которого должен быть русский. Охрана железных дорог будет передана в ведение вооруженных сил союзников, а техническое, административное и экономическое управление всеми железными дорогами будет возложено на Дж.Ф. Стивенса. Во главе каждой железной дороги должен стоять российский управляющий. Стивенс как генеральный директор будет назначать технический и административный персонал центрального офиса [12, р. 276]. Госдепартамент в целом одобрил проект соглашения. «Департамент желает, чтобы вы подчеркнули тот факт, что г-н Стивенс и Корпус железнодорожных служащих России, который будет ему помогать, будут представлять Россию, а не Соединенные Штаты или какие-либо возможные интересы Соединенных Штатов. Департамент считает этот момент важным, поскольку Соединенные Штаты не имеют ни желания, ни цели получить долю в железных дорогах России или контролировать их», - подчеркивал Лансинг. Он настаивал, что при заключении соглашения необходимо избегать формулировок, которые бы создали впечатление, что Стивенс зависит от военных и починяется их приказам [12, р. 277]. Моррис заверил Р. Лансинга в том, что японские представители во Владивостоке согласны с проектом. Однако официально японская сторона этого не подтвердила.
Будучи вовлеченным в затянувшееся дипломатическое противостояние, американское руководство теряло контроль над ситуацией. В реалиях гражданской войны и интервенции значение имела лишь военная сила. По сведениям американских представителей, за шесть недель через северную Маньчжурию прошло 40 000 японских солдат, 6 000 из них были расположены в Харбине. Они заняли все свободные казармы, включая те, что были предусмотрены для размещения американских солдат. Сортировочные станции Китайско-Восточной железной дороги управлялись японцами, которые контролировали перемещение всех грузов и распределение всех вагонов. Русские служащие под давлением силы были вынуждены подчиняться. В Чанчуне собрались японские железнодорожники, готовые немедленно их заменить. По имевшимся в распоряжении посла
Морриса сведениям, 2 000 человек готовились к зимовке в Чите, для контроля Амурской железной дороги. Японские гарнизоны также размещались в стратегических пунктах на железной дороге между Харбином и Владивостоком. Генерал Хорват в конце октября признался Стивенсу, что операции на Китайско-Восточной железной дороге вышли из-под его контроля. Остатки русской военной охраны игнорировались японцами. «Если не удастся прийти к какому-либо ясному пониманию с японским правительством относительно смысла и цели этой военной оккупации Китайско-Восточной железной дороги, то, боюсь, любое согласие с нашим планом действий будет искусственным и опасным, и позиция мистера Стивенса быстро станет несостоятельной», – писал Моррис в Вашингтон [12, p. 279–280].
В начале ноября заместитель Дж.Ф. Стивенса полковник Дж.Х. Эмерсон из Харбина доложил, что Восточное Китайское управление ввело эмбарго на все грузовые и пассажирские перевозки за пределами Маньчжурии. Моррис сам побывал в Харбине и подтвердил полученные ранее сведения об увеличении численности японских войск. По имевшейся в его распоряжении информации, в Харбин прибыла дополнительно 1 000 японских солдат, а 29 октября через город проехали 5 вагонов японских железнодорожных чиновников, направлявшихся на Амурскую линию. Российские чиновники Забайкальской железной дороги жаловались, что их организация полностью деморализована. Сотрудникам не платили жалование в течение двух или трех месяцев, они массово увольнялись со службы; 40% локомотивов либо нуждались в ремонте, либо пришли в негодность. Результатом явилась полная блокада грузовых и пассажирских перевозок, за исключением нескольких поездов, используемых в военных целях. По сведениям Эмерсона, ситуация на КВЖД складывалась аналогично [12, р. 279].
В этих условиях японское руководство обратилось к Хорвату с предложением вновь взять на себя управление дорогой. Генерал Отани издал инструкции японским командирам дивизий о том, что в дальнейшем они не должны вмешиваться в деятельность российских железнодорожных чиновников. Стивенс был уверен, что следующим шагом станет заявление о том, что Хорват не справился с управлением КВЖД и что военная необходимость потребовала размещения японских экипажей во всех поездах. Он полагал, что «это ознаменует завершение хорошо продуманного пла- на по поглощению интересов России в Восточном Китае и в то же время передаче Японии контроля над всей экономической деятельностью в северной Маньчжурии и Восточной Сибири» [12, p. 284]. По его мнению, любые варианты соглашения с Японией, при которых управление железных дорог окажется разделено, были лишены смысла. «Сложившаяся ситуация, которая усугубляется беспомощностью и продажностью русских, не только грозит провалом, но из-за грубого вмешательства и автократических методов, применяемых японцами в российских железнодорожных делах, неизбежно создает проблемы, которые могут привести к международным осложнениям», – настаивал глава американского железнодорожного корпуса. По его мнению, «план разделения властей просто привел бы к единоличному японскому контролю, сделал бы американцев подставными лицами или того хуже». Стивенс категорически отказывался принимать на себя руководство в случае, если план с разделением руководства дорогами будет принят [12, p. 282].
26 октября посол Р.С. Моррис вновь встретился с японским министром иностранных дел, чтобы обсудить железнодорожный вопрос. Если передача Транссиба под американский контроль не вызывала возражений, то проблема эксплуатации дороги Восточного Китая стала основным камнем преткновения в переговорах. Моррис высказал предложение, чтобы Стивенс назначил членом своего штаба японского специалиста и поручил ему работу исключительно на восточно-китайском направлении с соблюдением инструкций Стивенса по эксплуатации этой дороги. Белый дом вновь заверил японское правительство, что полный контроль Стивенса над системой управления – лишь вынужденная и временная мера, направленная на восстановление бесперебойного железнодорожного сообщения [12, p. 285].
По мере ухудшения ситуации многие американские дипломаты стали склоняться к необходимости найти компромисс, который позволил бы сдвинуть решение вопроса с мертвой точки. В конце ноября американский консул во Владивостоке Колдуэлл предложил фактически считать КВЖД и Амурскую дорогу самостоятельными участками, при этом отдать Восточную дорогу под управление японцам, а Амурскую под американский контроль [12, p. 287]. Данное предложение не получило одобрения ни у Стивенса, ни у Государственного департамента. Моррис также полагал, что подобный подход станет доказательст-
ИСТОРИЯ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ вом намерений союзников разделить дороги на сферы влияния. Он был уверен, что Китайско-Восточная железная дорога должна рассматриваться как часть системы Транссибирской магистрали: «Если мы ограничимся использованием Амурской железной дороги, как предлагает консульство во Владивостоке, мы фактически признаем притязания Японии на Китайско-Восточную железную дорогу» [12, p. 291].
Ноябрьский переворот в Омске и установление диктатуры А.В. Колчака серьезно осложнили и без того накаленную ситуацию вокруг железных дорог. 30 ноября Стивенс доложил, что «назначение Колчака диктатором вызвало противодействие Семенова, который находится в Чите с небольшим отрядом, доминирующим в этот момент на железной дороге и получает оружие и боеприпасы от японцев; состояние железной дороги становится отчаянным» [12, p. 290]. Британское руководство направило своим представителям во Владивостоке распоряжение воздержаться от каких-либо действий в поддержку казачьих атаманов. Одновременно последовал отказ британской стороны от обсуждения плана, при котором все железные дороги передавались бы под единоличный контроль Стивенса. Стало очевидно, что отныне союзники будут стремиться проводить самостоятельную политику.
Стивенс передал информацию от офицера армейской разведки о том, что японцы официально потребовали от правительства Восточного Китая предать им КВЖД. Он был уверен, что этот «хорошо спланированный заговор быстро увенчается успехом, если немедленно не будут предприняты активные шаги». Зная о негативном отношении Стивенса к японским военным, Моррис поставил эту информацию под сомнение, но получить от японского руководства разъяснения по этому вопросу ему не удалось [12, p. 288]. У посла сложилось впечатление, что японское внешнеполитическое ведомство вынуждено следовать в фарватере политики Генерального штаба. Японские дипломаты зачастую либо вообще не могли дать разъяснений относительно действий своих военных, либо их утверждения противоречили донесениям американских источников. Моррис попытался добиться информации от Генерального штаба, но не преуспел. С учетом обстоятельств, он уже не верил в возможность передачи железных дорог под полный контроль Стивенса.
-
11 ноября 1918 г. завершилась Первая мировая война. Правительство США сосредоточилось на
подготовке к началу мирной конференции в Париже. В этих условиях любое обострение отношений с Японией могло пагубно отразиться на реализации инициатив американского президента по послевоенному переустройству. 22 ноября президент В. Вильсон встретился с приехавшим в Вашингтон князем Г.Е. Львовым. Бывший глава Временного правительства попытался убедить американского лидера увеличить помощь, указав, что японцы прислали своих войск гораздо больше и занимаются «укреплением своей экономической базы вдоль железной дороги». На что Вильсон ответил, что США и Япония находятся в дружественных отношениях и любые недоразумения быстро улаживаются. «Так, в отношении заведы-вания железными дорогами Восточно-Китайской ветви полное согласие состоялось. Теперь во главе железнодорожного дела стоит наш инженер Стивенс», – заявил американский президент [5, c. 36].
-
В. Вильсон рассчитывал на реализацию принципа «открытых дверей и равных возможностей» в отношении российских железных дорог вне зависимости от будущего политического развития России» [17, p. 38–39]. Однако афишировать данную позицию, а тем более обсуждать этот вопрос в рамках конференции он не собирался. Перед Стивенсом и Моррисом была поставлена нетривиальная задача решить вопрос до начала конференции. Соглашение было подписано 9 января 1919 г. Было принято решение о создании Межсоюзнического комитета, включавшего представителей всех союзных держав. Возглавить комитет должен был Л.А. Устругов, занявший пост министра путей сообщения в правительстве Колчака. Стивенсу отводилась роль председателя Технического совета, который должен был осуществлять техническое и экономическое управление железными дорогами. Охрана отдельных участков путей сообщения распределялась между чехословацкими, японскими и американскими войсками. Данное соглашение являло собой болезненный компромисс, не удовлетворявший ни одну из сторон. Фактический контроль над ключевыми участками железной дороги атаманов Калмыкова и Семенова, получавших поддержку с стороны Японии, и их открытое неповиновение Колчаку поставили под вопрос жизнеспособность любых договоренностей и цели пребывания американского железнодорожного корпуса и военных в России.
Период лета–осени 1918 г. стал переломным в борьбе американского руководства за контроль над российскими железными дорогами. От попы- ток установления монопольного контроля США вынуждены были перейти к выработке соглашения с союзниками. Белый дом оказался не готов к тому, что реальная политика японских представителей в регионе будет идти в разрез с заявлениями официального Токио. Отсутствие у американского руководства адекватной программы реализации железнодорожного вопроса привело к тому, что решение задачи по передаче контроля над КВЖД и Транссибом под американский контроль фактически было возложено на плечи Дж.Ф. Стивенса, Р.С. Морриса и У.С. Грейвса, подчинявшихся разным ведомствам и выполнявших разные инструкции. Стивенс характеризовал политику США в этот период как «хуже, чем бесполезная» [11]. Уже осенью 1918 г. стали очевидны недочеты американской политики, предопределившие не только провал планов по контролю над железными дорогами, но и несостоятельность всей «русской политики» Вашингтона в 1918–1919 гг.