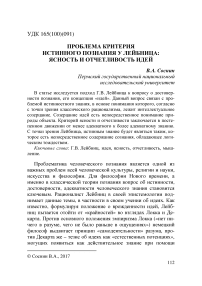Проблема критерия истинного познания у Лейбница: ясность и отчетливость идей
Автор: Соснин В.А.
Журнал: Социальные и гуманитарные науки: теория и практика @journal-shs-tp
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется подход Г.В. Лейбница к вопросу о достоверности познания, его концепция «идей». Данный вопрос связан с проблемой истинностного знания, в основе понимания которого, согласно с точки зрения классического рационализма, лежит интеллектуальное созерцание. Созерцание идей есть непосредственное понимание природы объекта. Критерий ясности и отчетливости заключается в постепенном движении от менее адекватного к более адекватному знанию. С точки зрения Лейбница, истинным знание будет являться таким, которое есть непосредственное содержание сознания, обладающее логическим тождеством.
Г.в. лейбниц, идея, ясность, отчетливость, мышление
Короткий адрес: https://sciup.org/147230373
IDR: 147230373 | УДК: 165(100)(091)
Текст научной статьи Проблема критерия истинного познания у Лейбница: ясность и отчетливость идей
внутреннего наблюдения и обучения. Далее, Лейбниц как рационалист, отмечал что, искать основания для «постоянной и безупречной достоверности» в чувственном опыте значит подвергать себя ошибкам и иллюзиям. Или, наоборот, нечто, что нами воспринимается как ясное и отчетливое, может только лишь казаться таким. Значит, истинным познанием, с точки зрения Лейбница, будет такое, которое основано на знании идей и их связей, сущностного исследования «первообразов» предметов, критерием же познания является то, насколько оно соответствует этим «первообразам».
Если говорить о местоположении идей, то тут Лейбниц согласен с мнением Локка, который указывал, что они находятся в человеческом уме и есть не что иное, как то, что человек мыслит или «то, чем занят ум во время мышления» [7, с. 154]. Но будучи единодушен в данном вопросе с Локком, Лейбниц далее отмечает, что в сознании мы находим аффекты, восприятия, которые имеют эмпирическое происхождение, и логические понятия. Являются ли они идеями? Так, например, сильный и яркий свет привлекает внимание, тем самым нами воспринимаются разнообразные «впечатления» или ощущения о свете. Таким образом, получаемое ощущение настолько сильно и отчетливо, «что восприятия замечены, то есть становятся объектами апперцепции или сознания. Именно на этом этапе нашего опыта идеи и понятия (ideas or concepts) вступают в игру» [12, p. 180]. Следовательно, образ, получаемый в процессе эмпирического познания или рисуемый нами в воображении (например, треугольник) даже будучи ясно воспринимаем нами, является, по мысли Лейбница, всего лишь неотчетливой идеей . По степени осознания она отлична от идеи отчетливой , которая как раз таки демонстрирует сущность («природу») и свойства этого предмета. К примеру, знание чисел и фигур (объекты «чистой» математики) не зависят от воображения, хотя оно способствует познанию их. Как подмечал Лейбниц, трудно представить или вообразить девяти- и десятиугольник, или даже многоугольник с тысячью сторонами, что, по сути, просто невозможно удержать в одном акте воображения, но, тем не менее, математик способен исследовать и узнать их природу [3, с. 263].
Может быть, идеи и есть «чистые» понятия? Как отмечает Г.Г. Майоров, «понятия – это те же идеи, но только актуально мыслимые» [8, с. 187]. С данным мнением нельзя не согласиться, безусловно, сам Лейбниц писал в «Рассуждении о метафизике», что «выражения (expressions), которые существуют в нашей душе независимо от того, представляем мы их или нет, можно было бы назвать идеями ; те же, которые мы представляем или образуем, – понятиями (conceptus)» [4, с. 152]. Стоит заметить, что идея есть не что иное, как «объект мышления», «непосредственный внутренний объект понятия» [3, с. 553], который «может и предшествовать мысли, и следовать за ней», понятие как «форма мышления» возникает и исчезает вместе с тем, что мыслится актуально [3, с. 109]. Например, если суждение, которое будет обладать категорической истиной, то есть будет связью идей субъекта и предиката («X существует», «Сократ – человек»), то «само это существование есть предикат» или сам предикат связан с идеей, о которой говорится [3, с. 365].
Стоит отметить, что немецкий философ рассматривает проблему истинности познания как в гносеологическом, который, безусловно, включает в себя психологический план, так и логическом ключе.
Идея в понимании Лейбница предстает несколько в «застывшем» или уже в готовом виде, но именно как процесс или «способность (facultas)», заключающаяся именно в возможности мышления о предмете, в независимости дан ли он нам в созерцании непосредственно или до определенного момента во времени актуально не мыслился. Далее, вполне возможно мыслить о том, что не существует в реальности, скажем, о «круглом квадрате», не обладая идеей данного предмета, поэтому идея «предполагает некую близкую способность, или умение мыслить о вещи» [6, с. 108].
Человеческий дух, как замечает Лейбниц, направлен на тот ряд мыслей, который более совершенен. «Более совершенны те мысли, которые заключают в себе больше реальности» [9, с. 11]. Иначе говоря, наше сознание создает наиболее полный образ объекта, или то , что репрезентирует другое, как, например, схема выражает устройство технического изделия.
Для получившейся совокупности мыслей характерно, что они настолько «крепко» связаны друг с другом или представляют собой континуум, так как «нет никакого времени, свободного от мысли» [9, с. 13]. Известны слова Лейбница о том, что «природа не терпит пустоты», так и в процессе мышления обнаруживается, что он наполнен, как и смутными, так и ясными идеями. Таким образом, классификация идей будет сформирована на прогрессе человеческого сознания – от смутных знаний к отчетливым, от неясного наблюдения до «внутреннего света» разума.
Так, ясным восприятием для Декарта является такое, «которое с очевидностью раскрывается внимающему уму, подобно тому, как мы говорим, что ясно видим предметы, кои достаточно заметны для нашего взора и воздействуют на наш глаз» [2, с. 332].
Беря за основу замысел о делении идей на ясные и отчетливые, Лейбниц вносит существенные изменения, устанавливая определенные границы между двумя характеристиками: «кроме ясности и отчетливости Лейбниц различает в свойство адекватности; это свойство идеи приобретают лишь на высшей степени совершенства» [1, с. 207]. Тем самым он создает подробную систематизацию видов познания, а, следовательно, и идей: «познание бывает или темным , или ясным , ясное в свою очередь бывает смутным или отчетливым, отчетливое – неадекватным или адекватным , а адекватное бывает символическим или интуитивным . Самое совершенное знание то, которое в одно и то же время адекватно и интуитивно» [5, с. 101]. Как не трудно заметить, в основе данной схемы лежит принцип «возрастающей истины», «очищения от данных чувства и приближения к чисто интеллектуальному созерцанию» [10, с. 86].
Ясная идея есть такая идея, которой достаточно для того, чтобы узнать и отличить одну вещь от другой [3, с. 256]. Кроме того, обладая ясной идеей одного предмета, то, следовательно, предметом нашего мышления или воображения будет именно тот предмет, который выражается с той самой ясной идеей, значит, «наше познание реально в той мере, в какой оно соответствует эти образцам» [3, с. 401].
Но в то же самое время ясно нами может восприниматься, например, мираж или иллюзии, поэтому к ясности необходимо добавить критерий – отчетливости . Здесь Лейбниц солидарен с мыслью Декарта, о том, что «может быть ясным восприятие, не являющееся отчетливым, но не существует отчетливого восприятия, которое не было бы одновременно ясным» [2, с. 332]. Отчетливыми называют такие идеи, которые «отчетливы сами по себе и отличают в предмете служащие для познания его признаки, что дает анализ или определение его» [3, с. 257]. Достоверность нашего познания, по мысли Лейбница, находится в человеческом разуме, или точнее, в чистых идеях разума, которые не зависят от чувств, таких как идеи бытия, единства, тождества и т.д. [3, с. 400]. Отсюда следует, расхождение взглядов Лейбница с картезианским принципом, который может быть понят «как чисто субъективный, не связанный с логической оценкой и разграничением идей», таким образом, «сама же ясность не есть предмет непосредственного опыта, а выводится из понятия » [10, с. 83].
К чистым идеям можно отнести законы формальной логики, например, закон тождества (А = А) воспринимается вполне ясно, следовательно, «закон тождества (или согласия) может считаться законом мышления как для логики, так и для математики» [11, с. 503]. По словам философа, «истинна та идея, понятие которой возможно, ложна – та, понятие которой заключает в себе противоречие» [5, с. 104]. Иначе говоря, будет являться не только то, что ясно и отчетливо воспринимается, хотя это будет необходимым условием, но то, что не содержит в себе противоречие. «Поэтому, в противоположность Декарту, Лейбниц считает, что не ясность идеи (которая во многих случаях – кажущаяся ясность) определяет возможность ее предмета, но, напротив, мыслимая возможность предмета является признаком ясности его идеи» [8, с. 188].
К неотчетливым же идеям относятся в первую очередь идеи чувственных качеств (теплота, вкус и т.п.), которые есть всего лишь идеи, «смыслы», описывающие нечто реальное, источником таких идей являются чувства («неотчетливые восприятия»). Аналогичной мысли придерживался Локк. Однако, если Лейбниц видит в данном феномене то, что чувственная сторона в 116
природе своей обладает «неотчетливостью», то, по словам английского философа, причина неясного познания кроется «или в притупленности органов, или в большой слабости и беглости впечатления от объекта, или же в слабости памяти, неспособной удерживать идеи такими, какими они были получены» [7, с. 416].
Так, к примеру, идея или понятие синего цвета, по мысли Лейбница, есть ясная, но неотчетливая идея. Она ясна, потому что мы способны отличить ее от любого другого цвета, но не является отчетливой, так как при этом мы не можем выразить «самость» синего цвета, которого ощущаем. Более того, ясная идея «заключается в признании того, что этот синий цвет является носителем сходства с другими возможными, независимо от того, видели ли мы еще один синий цвет» [12, p. 180]. Если цвет «сложен», как, например, зеленый, то мы способны дать определение в том, что это как «смесь желтого и синего». Значит, идея зеленого цвета есть идея не только ясная, но и отчетливая. Но в то же самое время она не является адекватной, ибо не уяснены сущности ее «составных частей» – «синего» и «желтого» цветов. Но, повторяет Лейбниц, обладать совершенно ясными идеями чувственных вещей весьма проблематично, скажем, оттенков синего много и не всегда нам удается определить «переход» от одного к другому. Или же мы видим двух собак разных пород – болонку и сторожевого пса, а на основе лишь этих внешних данных трудно определить их общую «природу». Другими словами, тенденция к получения достоверного знания прослеживается не только в иерархии идей, но и в самих идеях по степени от менее ясных к более ясным, от менее отчетливых к более отчетливым. Наконец, следует обозначить деление первоначальных истин, которые мы знаем благодаря интуиции, на « истины факта » и «истины разума » [3, с. 369]. Первые происходят из «опыта и наблюдений», то есть являются случайными. Вторые носят необходимый (аподиктичный), ибо обнаруживаются благодаря «внутреннему естественному свету», или самотожде-ственный характер, который основывается на непротиворечивости в отличии эмпирических истин, где существование противоположного «возможно».
Следует отметить, что в вопросе о ясности восприятия как критерия познания немецкий философ продолжает традицию рационализма, но в то же самое время понимает его как понятийно-логический анализ. Итак, взгляд Лейбница на проблему истинности, основывающейся в первую очередь на критериях «чистого разума», который обладает теми принципами необходимыми для познания, логически связано как с учением о достоверности Декарта, так и с последующим кантовским априоризмом.
Т. 1. С. 297–422.
Список литературы Проблема критерия истинного познания у Лейбница: ясность и отчетливость идей
- Беляев В.А. Лейбниц и Спиноза. СПб.: Наука, 2007. 352 с.
- Декарт Р. Первоначала философии // Соч.: в 2 т. М.: Мысль, 1989. Т. 1. С. 297-422.
- Лейбниц Г.В. Новые опыты о человеческом разумении // Соч.: в 4 т. М.: Мысль, 1983. Т. 2. 686 с.
- Лейбниц Г.В. Рассуждение о метафизике // Соч.: в 4 т. М.: Мысль, 1984. Т. 1. С. 125-163.
- Лейбниц Г.В. Размышление о познании, истине и идеях // Соч.: в 4 т. М.: Мысль, 1984. Т. 3. С. 101-107.
- ЛейбницГ.В. Что такое идея // Соч.: в 4 т. М.: Мысль, 1984. Т. 3. С. 108-109.
- ЛоккДж. Опыт о человеческом разумении // Соч.: в 3 т. М.: Мысль, 1985. Т. 1. 621 с.
- Майоров Г.Г. Теоретическая философия Готфрида В. Лейбница. М.: МГУ, 1973. 266 с.
- Неизданные заметки Лейбница о душе / изд. и пер. И.И. Ягодинского. Казань, 1917.
- Сретенский H.H. Лейбниц и Декарт. Критика Лейбницем общих начал философии Декарта: Очерк по истории философии / по-слесл. Е. Малышкина, Д. Кузницына. СПб.: Наука, 2007. 183 с.
- Фишер К. История новой философии: Готфрид Вильгельм Лейбниц: Его жизнь, сочинения и учение: пер. с нем. M.: АСТ: Транзит-книга, 2005. 734 с.
- McRae R. The theory of knowledge // The Cambridge Companion to Leibniz / ed by N. Jolley. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. P. 176-199.