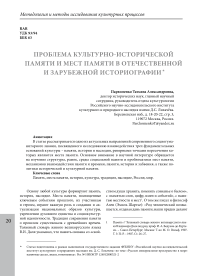Проблема культурно-исторической памяти и мест памяти в отечественной и зарубежной историографии
Автор: Пархоменко Т.А.
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Методология и методы исследования культурных процессов
Статья в выпуске: 2, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается одно из актуальных направлений современного социогуманитарного знания, посвященного исследованию взаимодействия трех фундаментальных оснований культуры - памяти, истории и наследия, реперными точками пересечения которых являются места памяти. Основное внимание в научной литературе обращается на изучение структуры, рамок, среды социальной памяти и проблематики мест памяти, механизмов взаимодействия памяти и времени, памяти, истории и забвения, а также политики исторической и культурной памяти.
Память, места памяти, история, культура, традиция, наследие, Россия, мир
Короткий адрес: https://sciup.org/170206261
IDR: 170206261 | УДК: 93/94
Текст научной статьи Проблема культурно-исторической памяти и мест памяти в отечественной и зарубежной историографии
Основу любой культуры формируют память, история, наследие. Места памяти, посвященные ключевым событиям прошлого, их участникам и героям, играют важную роль в создании и актуализации национальных образов культуры, укреплении духовного единства и социокультурной идентичности. Традиция сохранения памяти о прошлом существовала с древнейших времен. Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля указывал, что память связана со «свой- ством души хранить, помнить сознанье о былом», с «памятью слов, цифр, имен и событий», с памятью местности и мест1. О том же писал и философ Ален (Эмиль Шартье): «Род человеческий возвышается, отдавая дань памяти; наши предки делают
Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания ФГБНИУ «Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева» по теме «Русское мемориальное пространство в мире: памятные доски, знаки, топонимика». Рег. № НИОКТР 124012800521-2
нас лучше, чем были сами, уже тем только, что мы почитаем их, прислушиваемся к памяти сердца»2.
Особую актуальность проблема памяти получила в XX веке, социальные катаклизмы и мировые войны которого породили всеобщее стремление к увековечению «мест памяти, мест траура» («Sites of Memory, Sites of Mourning») и путем коммеморации переосмыслению полученного «наследия травмы»3. Возникло новое направление научных исследований, связанных с памятью — «Memory Studies», в рамках которого разрабатывались темы «истории и памяти», «истории как искусства памяти», «памяти и времени», «культуры памяти и исторической политики», «социальной истории как мест памяти», «проблематики мест памяти», «памяти, забвения и власти» и некоторые другие. Они находились в центре внимания многих научных коллективов мира, например, российского Института Наследия, французской «Школы Анналов» (École des Annales), Французской социологической школы Э. Дюркгейма (French sociological school), немецкой исторической «Билефельдской школы» (Bielefeld School), американской «Новой школы социальных исследований» (The New School for Social Research), а также ЮНЕСКО, экспертами которой была разработана и в 1992 году принята Программа «Память мира» (Memory of the World).
Истоки широкого интереса к исследованиям исторической и культурной памяти восходят к XIX веку, к сочинениям «Недуги памяти» художника Теодюля Рибо4 и «Материя и память» философа Анри Бергсона5, тематика которых оказала влияние на творчество видного социолога, преподавателя Страсбургского университета Мориса Хальбвакса. Его книги «Социальные рамки памя- ти» и «Коллективная память»6 получили широкое признание в мире, а разработанная в них концепция формирования коллективной памяти и социальных представлений о прошлом учитывалась всеми последующими исследователями памяти. Одним из них был, в частности, известный французский философ Поль Рикёр, издавший в 2000 году в Париже работу «Память, история, забвение», которая вскоре была переведена на русский язык и опубликована в Москве7. Основным императивом данной книги стала «идея о политике справедливой памяти», которую Рикёр связывал с общей проблематикой репрезентации прошлого, анализировавшейся им с трех точек зрения: во-первых, феноменологии памяти и ответов на вопросы «О чем мы вспоминаем?» и «Кому принадлежит память?», во-вторых, эпистемологии истории и, в-третьих, герменевтики исторического существования людей, где «под слоем памяти и истории обнаруживается мир забвения, мир, в котором вопреки ему самому существуют две возможности: либо окончательного стирания следов, либо их сохранения…»8.
Современные исследователи пытаются определить, с одной стороны, как соотносятся память о прошлом и история, можно ли доверять исторической науке и профессиональным историкам, а, с другой стороны, в чем состоит социальная функция коллективной памяти, которая формируется из присущих разным социальным группам исторических представлений, в большинстве своем субъективных и далеких от реальных фактов. Особый интерес ученых связан с так называемой «конфликтной памятью», которая, как отмечалось на одной из конференций, «порождается различными интерпретациями и оценками тех или иных событий, а также попытками формировать и/или регулировать процессы исторической памяти, либо вынося их в центр воспоминаний, либо предавая забвению»9. Изучение «конфликтной памяти» тесно связано с исследованиями таких вопросов как «структура памяти», «рамки памяти», «непрерывность и трансформация памяти», «нейтрализующая память», «политика сожаления и исторической ответственности», которые отражены в целом ряде публикаций конца XX — начала XXI века, например, в книгах Ивоны Ирвин-Зарецкой10, Джеффри Олика11 и Рафаэля Самюэля12. Для культурологов, теоретиков и историков культуры важным является разработка определений «культурная память», «социальная память», «историческая память», а также понятия «культура памяти», которое в основном трактуется «как деятельность по увековечению современной мемориализатору культуры, так и реконструкция прошлой (ушедшей) по отношению к современности культуры»13.
По характеру «культуры памяти», выражающейся в особом отношении народа и государства к определенным историческим фигурам, фактам, событиям, местам, образующим «среду памяти», можно судить о национальном сознании и политической культуре страны. Нагляднее всего это проявляется в периоды крутых революционных изменений социально-политических систем. Так, среда памяти Франции до сих пор наполнена зна- ками и символами Великой французской революции конца XVIII века, начиная с государственного гимна «Марсельеза», национального праздника «День взятия Бастилии» (14 июля) и национального девиза «Свобода, Равенство, Братство» (Li-berté, Égalité, Fraternité) и заканчивая Музеем Французской революции в замке Визий, памятниками Дантону, Марату, Мирабо, статуей Робеспьера в парижском Пантеоне, площадью Бастилии и барельефом «Марсельеза» на фасаде Триумфальной арки в Париже.
Аналогичным путем складывалась среда памяти в советской России, продолжившей дело французских революционеров и коммунаров. Уже в 1918 году дата создания Парижской Коммуны (18 марта 1871 года) по инициативе В.И. Ленина была объявлена праздничным нерабочим днем, а в 1924 году РСФСР было торжественно вручено знамя Парижской Коммуны. Тогда же по всей стране стали появляться населенные пункты, учебные, промышленные, торговые и прочие организации, названные в память и честь Парижской Коммуны. Взятая на вооружение большевиками революционная политика созидания через разрушение, полностью изменила мемориальный облик страны: вместо снесенных монументов царей и героев императорской России были установлены памятники советским вождям и героям Красной армии, вместо прежних названий городов, улиц, площадей появлялись имена Ленина, Сталина, Дзержинского, Калинина и других деятелей революции. Их имена присваивались фабрикам и заводам, колхозам и совхозам, поездам и пароходам, даже детям: появилось революционное поколение Виленов, Владиленов, Володаров, названных в честь Владимира Ленина, и Мэлсов, Мэлоров, Октябрин, чтивших память Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и считавших началом подлинной истории народа Октябрьскую революцию.
Большой вклад в разработку проблематики памяти и памятных мест внес один из основателей «Nouvelle Histoire», член Французской академии Пьер Нора, который писал: «Игра памяти и истории формирует места памяти, взаимодействие этих двух факторов приводит к их определению друг через друга», и «если правда, что фундаментальное право мест памяти на существование состоит в остановке времени, в блокировании работы забытья, в фиксировании настоящего порядка вещей, <…> тогда очевидно, что именно делает их крайне привлекательным понятием — тот факт, что места памяти не существуют вне их метаморфоз, вне бесконечного нагромождения и непредсказуемого переплетения их значений»14. Рассматривая места памяти в качестве бастионов «коммеморативной бдительности» и сохранения истории, потребность в которой определяется потребностью в памяти, Нора утверждал: «То, что мы называем памятью, — это на самом деле гигантская работа головокружительного упорядочивания материальных следов того, что мы не можем запомнить, и бесконечный список того, что нам, возможно, понадобится вспомнить»15. Как следствие — «императив истории <…> вышел далеко за пределы круга профессиональных историков. Не только обычные маргиналы официальной истории оказались захвачены потребностью восстановить свое исчезнувшее прошлое. Все организованные сообщества, интеллектуальные и нет, ученые и нет, а не только этносы и социальные меньшинства, обнаруживают необходимость заняться поисками основ своей собственной организации, разысканием своих истоков»16. Такая массовая увлеченность памятью, ее коммемо-рацией в многочисленных местах памяти в итоге привели к вольному обращению с прошлым, которое в XX веке утратило свой органичный характер, в результате чего получило «значение не то, что прошлое накладывает на нас, а лишь то, что в него вкладывают»17.
Задаваясь вопросом, «Что послужило свидетельством известности мест памяти — их изначальная интенция или бесконечное возвращение циклов памяти?», Нора отвечал: «Очевидно, и то и другое: все места памяти — это отдельные предметы, отсылающие к памяти как к целому. <…>
Память «вцепляется» в места, как история — в события»18. Это определяет многообразие мест памяти, их классификации и типологии: архивы, музеи, библиотеки, кладбища, архитектурные и мемориальные памятники, награды, памятные знаки, топографические места и другие. «Можно до бесконечности оттачивать классификации: — писал Нора, — противопоставлять места публичные и частные, места памяти в чистом виде, полностью исчерпываемые их коммеморативной функцией, — такие, как надгробные речи, Дуо-мон или Стена коммунаров, и те, чье измерение памяти — лишь одно из многих в фасциях их символических значений — национальный флаг, праздник, паломничество и т.д.»; суть состоит не в этом, а в том, «что невидимая нить связывает объекты, не очевидно взаимосвязанные между собой, <…> что существует выраженная сеть этих разных идентичностей, бессознательная организация коллективной памяти, которой мы позволяем осознать самое себя»19.
Концепция мест памяти Пьера Нора не поставила точку в вопросе соотношения памяти и истории, и он до сих пор остается дискуссионным. Некоторые ученые считают их идентичными, другие отдают приоритет истории за стремление к научной объективности, третьи выделяют память как менее восприимчивую к идеологическим манипуляциям при освещения прошлого. В то же время, как писал профессор Колумбийского университета Й.Х. Йерушалми, необходимо всегда иметь в виду, что только благодаря коллективной памяти древние народы, не имевшие еще своего собственного историописания, но крепко державшиеся заповеди «Помни», смогли сохранить себя, свою идентичность и культуру20. О значении памяти в культурном развитии человечества писал и русский мыслитель Вяч. Иванов, считавший, что «культура, в ее истинном смысле <…> есть память не только о земном и внешнем лике отцов, но и достигнутых ими посвящениях»21.
Исследователи полагают, что память и история связаны категорией времени, которая «в историческом исследовании выполняет самые разные функции. Важнейшие из них: обеспечение социальной памяти, организация прошлого, его реконструкция и интерпретация»22. Разделяет же память и историю разный характер «конструирования прошлого» и выражения «истины прошлого», объективности или тенденциозности исторических нарративов23. По мнению польского профессора Войцеха Вжосека, «память о прошлом и знание о нем совместно создают современные смыслы культуры», наделяющие «преимуществом те образы исторического порядка, которые поддерживают в сфере культурной коммуникации господствующие ценности и их актуальные воплощения»24. В общем, как писал французский историк Жак Ле Гофф, «Память — это исходный материал истории. Будь то в идеальной, устной или письменной форме, она представляет собой некий живой источник, который питает историков. Но поскольку историческая память чаще всего имеет бессознательный характер, в действительности существует гораздо большая опасность, что со временем в мыслящих сообществах манипулированию будет скорее подвергнута она, чем сама история как отрасль знания. Впрочем, последняя, в свою очередь, питает память и вновь подключается к тому грандиозному диалектическому процессу, в котором участвуют память и забвение и которым живут индивиды и общества», иначе говоря, «память — это понятие-перекресток», которое связано с «феноменами, непосредственно относящимися к наукам о человеке и обществе»25.
Одним из таких феноменов является наследие, которое, по мнению исследователей, «способствует формированию, циркуляции и закреплению памяти на транснациональном (глобальном), национальном, региональном, локальном, семейном и индивидуальном уровнях», что делает необходимым «сопрягать исследования наследия и политики памяти», изучать, «как объекты наследия служат конструированию идеологически нагруженной коллективной памяти»26. А также, в какой степени наследие и память отражают «истинное» прошлое, по какой причине вспыхивают «войны памяти» и «войны за наследие», почему в одних странах их практически нет, а в других смена идеологических смыслов и практик, связанных с историей, памятью, забвением и наследием, происходит довольно регулярно. Как писал культуролог, профессор Ю.М. Лотман, «Каждая культура определяет свою парадигму того, что следует помнить (т.е. хранить), а что подлежит забвению. Последнее вычеркивается из памяти коллектива и «как бы перестает существовать». Но сменяется время, система культурных кодов, и меняется парадигма памяти-забвения. То, что объявлялось истинно-существующим, может оказаться «как бы несуществующим» и подлежащим забвению, а несуществовавшее — сделаться существующим и значимым», иначе говоря, «память не является для культуры пассивным хранилищем, а составляет часть ее текстообразующего механизма»27. Такую память Лотман называл «креативной (творческой)» в отличие от информационной памяти, к которой он относил «механизмы сохранения итогов некоторой познавательной деятельности»28.
Ведущая роль в работе механизмов управления памятью и забвением всегда отводилась ин- ститутам памяти — архивам, библиотекам, музеям, мемориалам, институализирующим наследие, «преобразующим» память в историю. Самым проблемным при этом является процесс комме-морации, мемориализации и музеефикации конфликтных, «трудных мест» памяти, вызывающий жаркие споры в мировом профессиональном и гражданском обществах вплоть до «сражений на полях памяти», частью которых являются периодически возникающие войны с памятниками. Их накал и широкое распространение привел к возникновению международного и национального «мемориального законодательства», которое вводило юридический запрет на отрицание тех или иных исторических событий и правовую ответственность за их непризнание, например, две Резолюции Генеральной ассамблеи ООН № 60/7 от 21 ноября 2005 года и № 61/255 от 26 января 2007 года, осуждающие отрицание Холокоста, или правовые нормы Франции рубежа XX–XXI веков, определяющие юридическую ответственность французов за отрицание Холокоста. Вместе с тем, некоторые исследователи обращают внимание на неоднозначность такого «мемориального законодательства», а также «проникновения юридического мышления в сферу отношения к прошлому», в результате которого, «с одной стороны, происходит консолидация мнения общества в отношении прошедших и будущих событий. Но, с другой стороны, наносится удар по свободе научных исследований, свободе слова»29.
Таким образом, все вышеизложенное говорит о том, что память, история, наследие и «места памяти» как их выразители и хранители являются в настоящее время актуальными темами научных исследований. Это обусловлено тем, что их проблематика тесно связана с ключевыми вопросами (историософскими, культурологическими) познания культуры, которые определяют основной вектор развития социально-гуманитарного знания в современном мире.
Список литературы Проблема культурно-исторической памяти и мест памяти в отечественной и зарубежной историографии
- Вжосек, В. Об историческом мышлении / Войцех Вжосек; пер. с польск. К.Ю. Ерусалимский // Вжосек, В. Культура и историческая истина / Войцех Вжосек. — М.: Кругъ, 2012. — С. 139–286.
- Дорская, А.А., Дорский, А.Ю. «Войны памяти» и их правовое измерение: мемориальные законы как явление правовой жизни конца XX — начала XXI века / Александра Андреевна Дорская, Андрей Юрьевич Дорский // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Юридические науки. — 2019. — № 4 (36). — С. 19–27.
- Ле Гофф, Ж. История и память / Жак Ле Гофф; пер. с фр. К. З. Акопян. — М.: РОССПЭН, 2013. — 302 с.
- Лотман, Ю.М. Память в культурологическом освещении / Юрий Михайлович Лотман // Лотман Ю.М. Избранные статьи: в 3 томах. Т. 1: Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллинн: Александра, 1992. С. 200–202.
- Нора, П. Между памятью и историей. Проблематика мест памяти / Пьер Нора // П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. Франция-память / пер. с фр. Д. Хапаева. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. — С. 17–50.
- Нора, П. Эра коммемораций / Пьер Нора // П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. Франция-память / пер. с фр. Д. Хапаева. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. — С. 95–148.
- Рикёр, П. Память, история, забвение / Поль Рикёр; пер. с фр.: И.И. Блауберг и др. — М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. — 725 с.
- Савельева, И.М., Полетаев, А.В. История и время. В поисках утраченного / Ирина Максимовна Савельева, Андрей Владимирович Полетаев. — М.: «Языки русской культуры», 1997. — 800 с.
- Святославский, А.В. История России в зеркале памяти. Механизмы формирования исторических образов / Алексей Владимирович Святославский. — М.: «Древлехранилище, 2013. — 592 с.
- Фелькер, А. В. Исследования наследия и политики памяти — в поисках общих подходов / Анастасия Владимировна Фелькер // Политическая наука. М., 2018. № 3. С. 28–52 = Felcher A.V. Heritage studies and the politics of memory — in search for common approaches // Political science (RU). M., 2018. N 3. P. 28–52.
- Хальбвакс, М. Социальные рамки памяти / Морис Хальбвакс ; пер. с фр. и вступ. ст. С. Зенкин. — М.: Новое издательство, 2007. — 346 с.