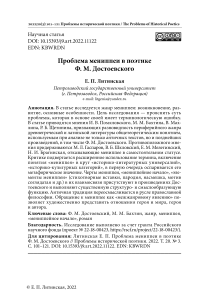Проблема мениппеи в поэтике Ф. М. Достоевского
Автор: Литинская Евгения Петровна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.20, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется жанр мениппеи: возникновение, развитие, основные особенности. Цель исследования - прояснить суть проблемы, которая в основе своей имеет терминологическую ошибку. В статье приводятся мнения И. В. Помяловского, М. М. Бахтина, В. Махлина, Р. Б. Щетинина, признающих разновидность периферийного жанра древнегреческой и латинской литературы общетеоретическим понятием, используемым при анализе не только античных текстов, но и позднейших произведений, в том числе Ф. М. Достоевского. Противоположного мнения придерживаются М. Л. Гаспаров, В. Б. Шкловский, Е. М. Мелетинский, Н. И. Брагинская, отказывающие мениппее в самостоятельном статусе. Критике подвергается расширенное использование термина, включение понятия «мениппея» в круг «историко-литературных универсалий», «историко-культурных категорий», в первую очередь оспаривается его метафорическое значение. Черты мениппеи, «мениппейное начало», «элементы мениппеи» (стихотворные вставки, пародия, насмешка, мотив соглядатая и др.) в их взаимосвязи присутствуют в произведениях Достоевского и выполняют существенную структуро- и смыслообразующую функцию. Античная традиция переосмысливается в русле православной философии. Обращение к мениппее как «межжанровому явлению» позволяет художественно представить отношения героя и мира, героя и автора.
Ф. м. достоевский, м. м. бахтин, жанр, мениппея, мениппейное начало, роман
Короткий адрес: https://sciup.org/147238866
IDR: 147238866 | DOI: 10.15393/j9.art.2022.11122
Текст научной статьи Проблема мениппеи в поэтике Ф. М. Достоевского
Н есмотря на долгую историю своего существования от античности до Нового времени и современности, жанр мениппеи не имеет точного определения и вызывает много споров. И. В. Помяловский [Помяловский], В. С. Дуров [Дуров], Л. Д. Тарасов [Тарасов], М. Бахтин [Бахтин], В. Махлин [Мах-лин], H. D. Weinbrot [Weinbrot], Р. Б. Щетинин [Щетинин, 2009] и др. признают мениппею жанром античной и западноевропейской литературы, рассматривая термин в рамках исторической поэтики. Однако существует и противоположное мнение, принадлежащее М. Гаспарову [Гаспаров, 2002, 2004], В. Шкловскому [Шкловский], Н. Брагинской [Брагинская, 2004, 2007] и др., которые не признают мениппею жанром.
Жанр связан с именем Мениппа, греческого философа-киника III в. до н. э., сочинения которого сохранились лишь в заголовках. Известно, что произведения Мениппа отличало свободное сочетание стихов и прозы, а по определению Страбона, они относились к жанру σπουδογέλοιον («серьезно-смешное») [Помяловский: 174], содержали и пародии (в том числе литературные — на эпос Гомера, трагедии), и насмешки (в первую очередь осмеяние философских доктрин).
Возникновение мениппеи в эпоху эллинизма неслучайно. Кризис классической античной культуры, когда человек считался частью общественной системы, наследующей традиции рода, и обращение к конкретному индивиду, внимание к его внутреннему миру, состоящему из противоречий, — предмет для размышлений эллинистической интеллигенции, философов-проповедников, риторов, учителей словесности. Литература этого времени обращается к индивидуальности, на смену эпическим формам приходят малые, в том числе диалогические (диатриба, сократический диалог, солилоквиум, симпосий). Классическая мениппея как «открытый», подвижный жанр вошла в раннехристианскую литературу. Обращенность античности к «человеку внешнему» трансформируется в диалог с личностью, «человеком внутренним» [Пискунова: 276]. Новые тексты по типу «Исповеди» Августина «соединили в себе четыре до тех пор отдельных жанра: жанр мениппеи, жанр трагедии, жанр философского изложения и жанр христианского религиозного обращения (исповедь, молитва и т. п.)» [Сегал].
Человек, преисполненный антиномиями, нуждающийся в собеседнике, — литературный герой Нового времени.
В римской литературе термин «satura menippea» — «менип-пова сатура» впервые используется в I в. до н. э. римским ученым Марком Теренцием Варроном Реатинским, которому принадлежит философско-нравственное сочинение из 150 книг (до нас дошло 90 названий и 591 фрагмент) — «Saturae menip-peae». Согласно Цицерону, Варрон сказал о своей литературной деятельности следующее: «И, однако, в тех старинных моих сочинениях, которые, подражая Мениппу, но, не переводя его, я перемешал с известною долей веселости, много примешано из внутренних областей философии, многое сказано диалектически; это сделал я с тем намерением, чтобы люди, не так ученые, понимали их легче, будучи приманиваемы к чтению как бы удовольствием; я имел также намерение писать с философским оттенком в похвальных словах и даже в самих предисловиях к древностям, не знаю только, достиг ли я этого» (цит. по: [Помяловский: 161]).
В. С. Дуров отмечает, что «кинизм Мениппа стал для Вар-рона литератураным приемом, удобным не только для высмеивания различных философских школ и догматов, но и для порицания нравственных пороков общества и проповеди положительного идеала, каким представлялась Варрону жизнь предков» [Дуров: 196].
Необходимо уточнить, какое содержание вкладывали римляне в слово «сатира». Исконной формой является satura (прилагательное женского рода от satur — сытый, насыщенный, обильный [Дворецкий: 901]) — производное от lanx satura — блюдо, наполненное всякими плодами, которое вносилось в храм Цереры, богини плодородия. Лексема приобрела переносное значение: смесь, всякая всячина: per saturam — в беспорядке, вперемешку, без плана [Дворецкий: 902].
Satira — латинизированная версия, которая «возникла, очевидно, в позднее время из написания на греческий лад — satyra , когда в силу известной грекомании слово satura выводили из греческого σάτυρος . Слово “сатура” исконно римское, а наиболее ясное его толкование имеется у Павла Диакона (ученого времен Карла Великого) в его сокращении словаря
Феста, пользовавшегося, в свою очередь, антикварным словарем Веррия Флакка, современника императора Августа: “Сатурой называется род кушанья, изготовленного из разных вещей, закон, составленный из многих других законов, и род стихотворения, в котором идет речь о многих вещах”» [Петровский].
Термин «сатира» впервые был использован римским поэтом Квинтом Эннием (239–169 гг. до н. э.). Свой сборник он назвал «Satura», в него входили отдельные стихотворения, различные по содержанию и метрической структуре, но имевшие единую цель — выражение личного авторского мнения. Позднее сатирами стали называться самостоятельные стихотворные тексты. Римский поэт Гай Луцилий в построенном по аналогичному принципу сборнике соединил стихотворения поучительного содержания с текстами, имеющими полемически-критический оттенок [Словарь античности: 510–511]. Историк Тит Ливий в книге VII своей «Истории от основания города» («Ab urbe condita») отмечает характерное присутствие драматического элемента в древней сатуре, сохранившегося и у Вар-рона (подробнее см.: [Щетинин, 2009: 86]).
Итак, в античной литературной традиции выделяют сатиру по образцу текстов Луцилия и сатиру Варрона (как подражание Мениппу) (см. подробнее: [Помяловский: 169]). К этой последней разновидности литературных произведений, кроме текстов Мениппа и самого Варрона, относят произведения писателей-киников — Антисфена, Гераклида Понтика, Кратета, Биона Борисфенита, Монима. В этом же жанре созданы «Отыквление» Сенеки, «Сатирикон» Петрония, «Осел» Лукиана.
И. В. Помяловский — автор обобщающей работы «Марк Теренций Варрон Реатинский и Мениппова сатура» (1869) — при определении жанра произведений римского автора использует термины «мениппова сатура» (в заглавии), «менип-пея» и «мениппейская сатура»: «Одним из данных для сличения будут отрывки Мениппей Варрона» [Помяловский: 185]. «Так Геллий, пользовавшийся, как мы видели, Мениппейски-ми сатурами Варрона непосредственно, говорит, что Марк Теренций соперничал в своих сатурах с Мениппом» [Помяловский: 184]. И. В. Помяловский выделяет следующие черты жанра: разнообразное метрическое воплощение, смешение прозы и поэзии, латинского и греческого языков, отсутствие личного компонента, представление пороков в обобщенном виде и юмористически-веселое содержание [Помяловский: 162–164].
В отечественном литературоведении закрепилось использование именно термина «мениппова сатира». Однако, как отмечает Р. Щетинин, это понятие нельзя считать удачным, поскольку «сатира — это дальнейшее развитие жанра сатуры, и она уже не содержит смешения стихов и прозы, что и определяет само название жанра…» [Щетинин, 2009: 86].
Исследуя тексты Мениппа, Варрона, Лукиана, Р. Щетинин называет жанровыми чертами античной менипповой сатиры следующие: смешанная форма, состоящая из стихов и прозы; насмешка (παίγνιον), как правило, имеющая дидактическую цель, направленная против догматизма философских учений и людских страстей; рассуждения о нравственности, счастливой жизни; показ отрицательных сторон человеческой жизни; мотив κατάσκοπος (соглядатай) — наблюдатель человеческих дел обозревает их с какой-нибудь необычной точки зрения, например, с высоты, при которой меняются все масштабы; двойное название, например, использование греческого языка во второй части названия; употребление латинских и греческих пословиц в качестве заглавий; присутствие двойника; обращение к слушателю и читателю от лица автора; пародия [Щетинин, 2009].
Большинство из перечисленных признаков античного жанра приводит и М. М. Бахтин, являясь автором термина мениппея — неологизма, введенного в научный обиход во втором издании книги «Проблемы поэтики Достоевского» (1963): «…в дальнейшем мы будем называть “Мениппову сатиру” просто м е н и п п е е й» [Бахтин, т. 6: 128].
М. Бахтин выделяет элементы менипповой сатиры в творчестве писателя при анализе «фантастических рассказов» «Бобок», «Сон смешного человека», «Кроткая», а также «Записок из подполья» и рассказа «Скверный анекдот» [Бахтин, т. 6: 155–174]. Источниками мениппеи исследователь называет раннехристианскую литературу (исповедь, проповедь, житие, Евангелия), не исключая, однако, опору на классические античные образцы: «Менипп, или Путешествие в загробное царство» Лукиана, «Отыквление» Сенеки, «Сатирикон» Пе-трония, «Золотой осел» Апулея, сатиры Варрона. Исторические границы жанра исследователь расширяет до таких произведений, как «Герои романа» Буало, «Боги, герои и Виланд» Гете, «диалоги мертвых» Фенелона и Фонтенеля, мениппеи Дидро, Вольтера, Гофмана, Э. По [Бахтин, т. 6: 160–162]. Особо отмечаются античные жанры «сонной сатиры» и «фантастического путешествия», которые развиваются в «сонных видениях» средневековой литературы, в гротескных сатирах XVI–XVII вв., у романтиков в сказочно-символическом ключе (Г. Гейне и др.), в реалистических романах в психологическом и социально-утопическом использовании (Ж. Санд, Чернышевский), в вариации кризисных снов в драматургии Шекспира, Кальдерона и Грильпарцера [Бахтин, т. 6: 166–167].
Наряду с употреблением термина «мениппея», частотным у Бахтина оказываются понятия «элементы мениппеи», «ме-ниппейное начало», компонентами которых являются: «особый карнавальный (в широком смысле этого слова) характер сме-хового элемента»; «исключительная свобода сюжетного и философского вымысла»; «создание исключительных ситуаций для провоцирования и испытания философской идеи — слова, правды, воплощенной в образе мудреца, искателя этой правды»; сочетание свободной фантастики, символики и мистико-религиозного элемента с трущобным натурализмом; постановка «последних вопросов»; «трехплановое построение: действие и диалогические синкризы переносятся с Земли на Олимп и в преисподнюю»; особый тип экспериментирующей фантастики; морально-психологическое экспериментирование: изображение необычных и ненормальных состояний человека (безумие, необычные сны, необузданная мечтательность и т. п.); скандал и эксцентрика; резкие контрасты и оксюморонные сочетания; элементы социальной утопии; использование вставных жанров, смешение прозы и стихов; многостильность и многотонность; злободневная публицистичность, фельетонность [Бахтин, т. 6: 128–134].
Данные черты в их взаимосвязи становятся теоретическим основанием для выделения в различных литературных произведениях «мениппейного начала», которое выполняет существенную структурообразующую и смыслообразующую функцию.
Широкие границы мениппеи мотивированы бахтинской концепцией «памяти жанра»: «Никогда новый жанр, рождаясь на свет, не отменяет и не заменяет никаких ранее уже существовавших жанров. Всякий новый жанр только дополняет старые, только расширяет круг уже существующих жанров. Ведь каждый жанр имеет свою преимущественную сферу бытия, по отношению к которой он незаменим. <…> Итак, ни один новый художественный жанр не упраздняет и не заменяет старых. Но в то же время каждый существенный и значительный новый жанр, однажды появившись, оказывает воздействие на весь круг старых жанров: новый жанр делает старые жанры, так сказать, более сознательными; он заставляет их лучше осознать свои возможности и свои границы, то есть преодолевать свою н а и в н о с т ь. <…> Воздействие новых жанров на старые в большинстве случаев содействует их обновлению и обогащению» [Бахтин, т. 6: 298–299].
-
В. Л. Махлин указывает на «становящуюся» историчность мениппеи: жанр обращен не столько в прошлое, сколько в будущее [Махлин: 525]. Подобного мнения придерживается С. Пискунова: «мениппея — жанр, открытый будущему» [Пискунова: 292]. Р. Лахманн отмечает, что мениппея «отказывается от замкнутости и структурной чистоты традиционных жанров в пользу их гибридности и пограничности» [Лахманн: 13]. Ю. Кристева в рамках диалогического дискурса соотносит роман с понятием мениппеи [Кристева: 452].
Взгляд М. Бахтина на мениппею как на полноценный жанр античной поэтики оспаривался В. Б. Шкловским, Е. М. Меле-тинским, С. С. Аверинцевым, М. Л. Гаспаровым, Н. И. Брагинской. Приведем эти мнения.
-
В. Б. Шкловский отмечал: «Термин “мениппея” понадобился Бахтину в силу новости и неопределенности» [Шкловский: 444].
-
Е. М. Мелетинский критиковал позицию Бахтина: «…сам первоначальный генезис жанра романа, и его главная жанровая специфика предстают несколько деформированными. <…>
“Мениппенность” и “карнавальность” не субстанциональные свойства романа, а жанровые привнесения, стимулировавшие его развитие, в особенности переход от “высоких” форм к “низким” и от “низких” к “синтетическим” в переломные моменты истории романа» [Мелетинский: 128–129].
-
С. С. Аверинцев полагал, что «термин “мениппея” <…> наиболее плодотворен как метафора. Его исторически верифицируемое содержание исчезающе мало, богаты лишь его побочные, ассоциативные коннотации» [Аверинцев: 201].
М. Л. Гаспаров называет мениппею небывалым жанром античной литературы, «сочиненным» Бахтиным, «в конечном счете мениппея становится просто условным оценочным названием всего, что нравится лично Бахтину, что он считает хорошим и важным» [Гаспаров, 2004].
Н. И. Брагинская оценивает концепцию Бахтина так: «Мне всегда казалось, что “мениппея” ничего не дает для понимания Достоевского» [Брагинская, 2004: 67], — ссылаясь при этом на мнение К. Эмерсон, известной переводчицы М. М. Бахтина на английский язык и автора книг о нем: «Я думаю, никто не станет спорить с тем, что оно <изложение истории серьезно-смешного> интересно, но все же это только добавление. Оно много теряет по сравнению с мощными идеями полифонии и двуголосья и само по себе не порождает глубокой интерпретации, не открывает ничего существенного в Достоевском» [Эмерсон, 1996: 71], (см. также: [Эмерсон, 2006]).
Трудно не согласиться с приведенными оценками и аргументами. Как видим, критике подвергается расширенное использование термина, а также включение понятия «менип-пея» в круг «историко-литературных универсалий», «историко-культурных категорий», в первую очередь оспаривается его метафорическое значение.
Н. Автономова характеризует мениппею Бахтина, как и роман, термином архипонятие [Автономова: 116] и уточняет, что «для Бахтина мениппея — морфологически значимая клетка, позволяющая в романе понять то, что он считает самым главным, — динамику и незавершенность и литературного, и жизненного процесса. Бахтинская мениппея делает это лучше, чем какие угодно другие жанры и формы. Однако эта хрупкая конструкция “из осколков фактов” выходит из берегов, когда становится, по сути, критерием восприятия других жанров и других произведений в реальном литературном процессе: такая мифотворческая расширенность и представляется мне крайне спорной» [«Открытая структура»: 40].
-
С . И. Пискунова предполагает, что «мениппея для Бахтина — это имя-маска, заслоняющее грубой телесностью петро-ниевых и лукиановых сатир смиренный факт рождения христианской духовности и явление Нового Слова» [Пискунова: 270, 271].
-
Н . Тамарченко видит истоки литературоведческого конфликта в фрагментарности научного наследия М. М. Бахтина, выдвигает «тезис об отсутствии в его <М. Бахтина> научном творчестве внутренней цельности и единства » [Тамарчен-ко: 327] и подчеркивает необходимость систематического анализа идей ученого.
Изучение архивных материалов М. Бахтина свидетельствуют о том, что впервые он обращается к понятию мениппеи еще в 1940-х гг. (часть статьи о сатире для не вышедшей «Литературной энциклопедии»: «…менее определенный смешанный (с преобладанием прозы) чисто диалогический жанр, возникший в эллинистическую эпоху в форме философской диатрибы (Бион, Телет), преобразованный и оформленный циником Мениппом (III в. до н. э.) и названный по его имени “менипповой сатирой”; эта форма сатиры непосредственно подготовила важнейшую разновидность европейского романа, представленную на античной почве “Сатириконом” Петрония и отчасти “Золотым ослом” Апулея, а в Новое время — романами Рабле (“Гаргантюа и Пантагрюэль”) и Сервантеса (“Дон Кихот”)» [Бахтин, т. 5: 11]) и позднее в 1960-х гг. [Попова: 84].
Попытку систематизации терминологии Бахтина предпринимает И. Попова [Попова: 103–104]. Исследовательница приводит неопубликованные при жизни Бахтина фрагменты 1940-х и 1960-х гг., уточняющие взгляд ученого. Приведем наиболее значимые.
-
• «Мениппова сатира и здесь оказывается ведущей
к первофеномену роману. Термин “мениппова сатира” так же условен и случаен, так же несет на себе случайную печать одного из второстепенных моментов истории, так и термин “роман” для романа» [Бахтин, т. 5: 82].
-
• Термин «так же условлен и случаен, как и термин “роман”. Существовавшая до Мениппа и не всегда сатира, она связана с судьбой Мениппа, от которого как раз и не дошло ни одной строчки. Область серьезно-смехо-вого. Она родственна всем жанрам этой обширной области, но особенно жанру сократического диалога, но неправильно считать эту форму продуктом разложения сократического диалога. Прежде всего общая грубая характеристика всей области серьезно-смешного. Сатурнализация и последующая карнавализация мениппеи (в средние века и в эпоху Возрождения). Сложная система взаимовлияний и просачиваний с другими жанрами» [Бахтин, т. 4 (1): 746–747].
-
• «Правда, сам Достоевский ни здесь, ни где-либо в другом месте никогда не употребляет этого несколько ученого жанрового термина “мениппова сатира”. В русской литературе он вообще был не в ходу. Но в европейских литературах начиная с 16<го> века и до 19<го> в<ека> (особенно в 17<ом> и 19<ом> веках) он встречался довольно часто наряду с термином “лукиановский диалог” и более узким “диалог мертвых”. Сам Достоевский пользовался широким и неопределенным термином “фантастический рассказ”. Но дело не в термине, а в жанре» [Бахтин, т. 6: 361].
-
• «Об ироническом употреблении модных терминов (модель, моделирование и т. п.) и вообще терминов. Определенность термина (и его устойчивость и однозначность) может быть только функциональной и только в системе. Где такой системы нет (в литературоведении), определенность и однозначность изолированного, отдельного термина превращает его в тот лежачий камень, под который вода не течет, живая вода мысли. Это касается всех дисциплин, кроме лингвистики структурного типа» [Бахтин, т. 5: 377] (наброски теории термина).
М. Бахтин напрямую не называет мениппею жанром, хотя из его рассуждений это очевидно. Жанр «как чистая дефиниция» [Попова: 106] классической поэтики не привлекал исследователя. М. В. Заваркина обращает внимание на то, что М. М. Бахтин еще в 1920-е гг. «пишет больше о жанровой форме (хотя и содержательной по своей сути), чем о жанре как категории поэтики» [Заваркина: 14].
Свои разыскания в области мениппеи М. Бахтин видел в двух направлениях: «Две линии развития менипповой сатиры; одна из них — однотонно-оксюморонная — завершается Достоевским» [Бахтин, т. 4 (1): 682]; «Общая характеристика мениппеи и более подробное изучение тех двух линий ее развития (вообще был целый пучок таких линий), которые у нас представлены Гоголем, с одной стороны, и Достоевским, с другой, — церковно-проповедническая и цирково-балаганная» [Бахтин, т. 4 (1): 746].
Поставленные задачи не были реализованы Бахтиным. Как кажется, критика неоформленной концепции не может считаться полноправной. Неуниверсальность понятия осознавал и сам автор, используя, повторимся, терминологические варианты «мениппейное начало», «элементы мениппеи».
Мениппея играет важную структурно-семантическую роль в произведениях Ф. М. Достоевского. Элементы мениппеи вплетаются в повествование и дают автору возможность популярно донести до читателя глубокие философские идеи. В чистом (античном) виде мениппеи у Достоевского не встречаются, но признаки этого жанра мы можем указать.
М. М. Бахтин выделяет в романном наследии Достоевского «почти завершенную христианизованную мениппею» [Бахтин, т. 6: 175] — сцена чтения Евангелия Сони и Раскольникова. Мениппеями исследователь называет исповеди героев: Ипполита («Мое необходимое объяснение») в романе «Идиот» и Ставрогина в романе «Бесы», а также беседу Ивана и Алеши в трактире в романе «Братья Карамазовы», поэму «Великий инквизитор» [Бахтин, т. 6: 175]. Сны Раскольникова, сон Свидригайлова в «Преступлении и наказании», сон Версилова в «Подростке» также мениппеи, с точки зрения Бахтина [Бахтин, т. 6: 175].
Линию Бахтина продолжают современные исследователи творчества Достоевского. Р. Б. Щетинин, анализируя сцену именин Настасьи Филипповны из романа «Идиот», делает вывод об актуализации в ней характерных признаков менип-пеи (по Бахтину) и указывает на новаторство Достоевского: усложнение ситуации мениппеи за счет отсутствия детерминированности сюжетом (непредсказуемость выбора Настасьи Филипповны); использование и трансформация приема экспериментирующей фантастики в сцене пети-жё (расширение пространственно-временных рамок и раскрытие внутреннего мира героев через внешний) [Щетинин, 2002]. Е. В. Лескова выделяет мениппейные черты во вставных историях Достоевского: «“Великий Инквизитор” представляет собой синтетический жанр, объединяющий притчевую иносказательность с мениппейностью» [Лескова: 115].
К элементам античной мениппеи могут быть отнесены стихотворные вставки, многие из которых «имеют сюжетную проекцию в фабуле романа» [Криницын, 2017: 115]: комические стихотворения, шуточные и пародийные тексты, сочиненные, в том числе, самим Достоевским, стихотворные реминисценции А. Пушкина, Ф. Шиллера, Н. Некрасова, произносимые героями. «Комические и романтические стихи у Достоевского сходятся в идеологической функции и могут свободно переходить из одного типа в другой: возвышенный романтический пафос тут же, чуть ли не в самый момент его звучания, осмеивается, а, казалось, комические до бессмыслицы стихи отсылают к центральным идеям романа и приобретают глубокий аллегорический смысл» [Криницын, 2017: 92]. Так, баллада Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный…» в романе «Идиот» спроецирована на образ князя Мышкина (пророчество о безумии, платоническая влюбленность, служение идеалу) [Криницын, 2001].
Важный компонент античной мениппеи — пародия. Менипп пародирует знаменитых поэтов, среди которых Гомер, Еврипид. У Варрона известны пародии на Энния, Луцилия, Плавта, Пакувия, а также на греческих авторов, в том числе на Аристотеля, Менандра, Мнисифея, Скантия [Щетинин, 2009: 93]. Отметим особо пародии Достоевского в стихотворной форме, в которых мы видим классическую основу. Так, в романе «Бесы» стихотворение «Светлая личность» — не только «комическое опровержение агитационного “мифа”» [Криницын, 2017: 83], поскольку это сочиненная Достоевским пародия на стихотворение Н. Огарева «Студент», но и проекция на фигуру Петра Верховенского. Шуточное стихотворение «Жил на свете таракан…» капитана Лебядкина — бездарная пародия на басни XVIII в. «Образ таракана аллегорически описывает “подпольный” тип (“таракан от детства”), ибо капитан Лебядкин подразумевает под ним самого себя, с двумя характеристическими доминантами: “трагической” судьбой и “шутовской” линией поведения» [Криницын, 2017: 91].
Античные авторы использовали насмешку в своих произведениях с разными намерениями: «…у Мениппа насмешка составляла сама по себе цель, у Варрона же ею прикрывалась другая, более благородная — цель дидактическая» [Помяловский: 188]. Предполагаем, что у Достоевского мотив «онтологической насмешки», впервые описанный Б. Н. Тихомировым [Тихомиров] на материале романов «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы» и «Дневника Писателя», является развитием античного образца. Достоевский использует мотив насмешки, рядом с «христологической проблематикой» [Тихомиров: 73], углубляя философско-религиозное содержание романов.
Мотив соглядатая — характерный признак античной ме-ниппеи. Так, герои Лукиана («Икароменипп») и Варрона («Эндимион») рассматривают землю с луны (подробнее cм.: [Дуров: 194]). Необычный ракурс трансформирует масштаб происходящего. Если в античном тексте расширяются границы внешние, то у Достоевского подглядывающий и подслушивающий герой выходит за пределы своих возможностей, нарушаются границы внутренние: «…герой, случайно ставший свидетелем скрываемого события, познает оборотную сторону бытия, инобытие, имеющее хтоническую природу. Зачастую, не выдержав этого знания, герой погибает, так как проникновение в священные тайны первотворения наказывается с логикой неизбежности» [Зелянская: 107]. Так, подслушивание Свидригайловым разговора Сони и Раскольникова символично передает приобретение Свидригайловым власти над Раскольниковым.
Варрон в своих текстах обращается к слушателю и читателю от лица автора: «…“orede mihi” (“верь мне”), “non vides?” (“разве ты не видишь?”) и др. Есть сатуры, в которых Варрон сам выступает в качестве действующего лица, например в “Sexagessis” (“Шестьдесят ассов”), “Bimarcus” («Двойной Марк»), “Parmeno” (“Равный Менону”)» [Дуров: 194]. Как известно, подобная нарративная тактика является одной из ведущих у Достоевского: «В произведениях Достоевского самые ключевые места текста будут обозначаться словами “сказал непонятно зачем”, “почему-то сказал” и т. п., за которыми как раз и следуют слова, не имеющие ни причины, ни цели в дискурсе и потому всецело переводящие нас в область, в которой существует авторская позиция» [Касаткина: 152].
При очевидном присутствии элементов мениппеи существует важный, отличающий тексты Достоевского компонент, на который указал Д. Сегал: «Мениппея Достоевского всегда содержит то, что можно назвать “слёзным моментом”, который возникает, когда реальная сюжетная или воображаемая коллизия рождает чувства боли, жалости, горечи, сострадания либо по отношению к герою или одному из персонажей, либо в связи с сильным экзистенциальным переживанием» [Сегал]. В текстах Достоевского античная традиция переосмысливается в русле православной философии. Обращение к мениппее как «межжанровому явлению» позволяет художественно представить отношения героя и мира, героя и автора [Попова: 107].
Как известно, новый роман Достоевского «был синтезом самых разнообразных художественных и нехудожественных жанров — “полем” их самого активного взаимодействия. Это со всей очевидностью проявилось в традиционных аспектах жанрового содержания, в многозначности жанровых форм, в энциклопедичности жанровой структуры его романов, особенно поздних» [Захаров: 170]. Достоевский ломает рамки классического романа, интуитивно используя, наряду с иными жанрами, такую особенность менипповой сатиры, как смешение, оксюморонность и парадоксальность в широком смысле, что является непременным условием развития литературы.
Список литературы Проблема мениппеи в поэтике Ф. М. Достоевского
- Аверинцев С. С. Жанр как абстракция и жанры как реальность: диалектика замкнутости и разомкнутости // Риторика и истоки европейской литературной традиции. М.: Языки русской культуры, 1996. С. 191-219.
- Автономова Н. С. Открытая структура: Якобсон — Бахтин — Лотман — Гаспаров. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. 503 с.
- Бахтин М. М. Собр. соч.: в 7 т. М.: Русские словари; Языки славянской культуры, 2008. Т. 4 (1). 1119 с.; 1996. Т. 5. 731 с.; 2002. Т. 6. 799 с.
- Брагинская Н. Славянское возрождение античности // Русская теория: 1920-1930-e годы. М.: РГГУ, 2004. С. 49-80.
- Брагинская Н. В. Эзоп — служитель Муз, или Ошибка бога // Восток и Запад в балканской картине мира. Памяти В. Н. Торопова. М.: Ин-дрик, 2007. С. 98-152.
- Гаспаров М. Л. М. М. Бахтин в русской культуре ХХ века // Михаил Бахтин: pro et contra: в 2 т. СПб.: Изд-во Христианского Гуманитарного Института, 2002. Т. 2. С. 33-36.
- Гаспаров М. Л. История литературы как творчество и исследование: случай Бахтина // Русская литература XX-XXI веков: проблемы теории и методологии изучения: мат-лы Междунар. науч. конф. 10-11 ноября 2004 г. М.: МГУ 2004. С. 8-10 [Электронный ресурс]. URL: http://vestnik. rsuh.ru/article.html?id=54924 (20.03.2022).
- Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. М.: Русский язык, 1976. 1096 с.
- Дуров В. С. Жанр мениппеи в творчестве Варрона-сатирика // Традиции и новаторство в античной литературе: межвузов. сб.: Philologia classica. Л., 1982. Вып. 2. С. 187-199.
- Заваркина М. В. Жанр как категория поэтики (проблемы, тенденции, перспективы) // Проблемы исторической поэтики. 2020. Т. 18. № 1. С. 7-35 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_ pdf/1582887863.pdf (20.03.2022). DOI: 10.15393/j9.art.2020.7562
- Захаров В. Н. Система жанров Достоевского: типология и поэтика. Л.: ЛГУ 1985. 208 с.
- Зелянская Н. Л. Ситуация подсматривания в творчестве Ф. М. Достоевского 1840-х гг. // Известия Алтайского государственного университета. Филология. 2009. № 2 (62). С. 105-111.
- Касаткина Т. А. Священное в повседневном: двусоставный образ в произведениях Ф. М. Достоевского. М.: ИМЛИ РАН, 2015. 528 с.
- Криницын А. Б. О специфике визуального мира и семантике видений в романе Достоевского «Идиот» // Криницын А. Б. Исповедь подпольного человека: к антропологии Ф. М. Достоевского. М.: МАКС Пресс, 2001. С. 300-335.
- Криницын А. Б. Сюжетология романов Ф. М. Достоевского. М.: МАКС Пресс, 2017. 456 с.
- Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Французская семиотика: от структурализма к постструктурализму. М.: ИГ Прогресс, 2000. С. 427-457.
- Лахманн Р. Дискурсы фантастического. М.: НЛО, 2009. 384 с.
- Лескова Е. В. Жанровая специфика притчи и мениппеи в романах Ф. Кафки «Процесс» и Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2015. № 1. С. 114-118.
- Махлин В. Мениппея // Литературная энциклопедия терминов и понятий / гл. ред. и сост. А. Н. Николюкин. М.: Интелвак, 2001. Стб. 525-529.
- Мелетинский Е. М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М.: Наука, 1986. 320 с.
- «Открытая структура» в контексте междисциплинарности. Обсуждение книги Н. Автономовой (Круглый стол) // Вопросы литературы. 2010. № 6. С. 5-42.
- Петровский Ф. Определение сатуры как литературного жанра // Симпо7ий Zu^nóaiov [Электронный ресурс]. URL: http://simposium. ru/ru/node/11552 (20.03.2022).
- Пискунова С. Мениппея: до и после романа // Вопросы литературы. 2012. № 4. С. 267-292.
- Помяловский И. В. Марк Теренций Варрон Реатинский и Мениппова сатура. СПб.: Печатня В. И. Головина, 1869. 315 с.
- Попова И. «Мениппова сатира» как термин Бахтина // Вопросы литературы. 2007. № 6. С. 83-107.
- Сегал Д. Вагинов и Достоевский: к постановке проблемы // «Зеркало» — литературно-художественный журнал. 2020. № 56 [Электронный ресурс]. URL: http://zerkalo-litart.com/?p=12733 (20.03.2022).
- Словарь античности / пер. с нем. М.: Прогресс, 1989. 704 с.
- Тамарченко Н. Д. Поэтика Бахтина и современная рецепция его творчества // Вопросы литературы. 2011. № 1. С. 291-340.
- Тарасов Л. Д. М. Т. Варрон Реатинский как сатирик // Труды Томского государственного университета. Сер. Филология. Томск: Томский гос. ун-т, 1957. Т. 139: 5-я науч. конф. Том. гос. ун-та, посвященная 350-летию г. Томска. Секция литературоведения. С. 281-315.
- Тихомиров Б. Н. Кто же так смеется над человеком? (Мотив «онтологической насмешки» в творчестве Достоевского) // Dostoevsky Studies. New Series. 2013. Vol. 17. Pp. 73-97.
- Шкловский В. Б. Тетива: о несходстве сходного. Франсуа Рабле и книга М. Бахтина // М. М. Бахтин: pro et contra. Личность и творчество М. М. Бахтина в оценке русской и мировой гуманитарной мысли: антология: в 2 т. СПб.: РХГИ, 2001. Т. 1. С. 413-447.
- Щетинин Р. Б. Традиции мениппеи в поэтике романа Ф. М. Достоевского «Идиот» как отражение античной картины мира // Картина мира: модели, методы, концепты. Томск, 2002. С. 296-300.
- Щетинин Р. Б. Жанровые особенности мениппеи // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2009. № 3 (7). С. 84-93.
- Эмерсон К. Столетний Бахтин в англоязычном мире глазами переводчика // Вопросы литературы. 1996. № 3. С. 68-81.
- Эмерсон К. Двадцать пять лет спустя: Гаспаров о Бахтине // Вопросы литературы. 2006. № 3. С. 12-47.
- Weinbrot Howard D. Menippean Satire Reconsidered: From Antiquity to the Eighteenth Century. Baltimore: The John Hokins University Press, 2005. 375 p.