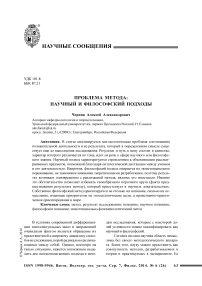Проблема метода: научный и философский подходы
Автор: Черняк Алексей Александрович
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Научные сообщения
Статья в выпуске: 6 (26), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется методологическая проблема соотношения познавательной деятельности и ее результата, который в определенном смысле существует еще до выполнения исследования. Результат и путь к нему состоят в единстве, характер которого различается по тому, идет ли речь о сфере научного или философского знания. Научный подход характеризуется стремлением к объективации рассматриваемых предметов, возможной благодаря онтологической дистанции между ученым и его деятельностью. Напротив, философский подход опирается на экзистенциальное переживание, не заменимое никакими теоретическими разработками, поэтому результат возникает одновременно с реализацией метода, являясь его ипостасью. Именно это обстоятельство позволяет избежать своеобразного порочного круга (факта предшествования результата методу), который присутствует в научных доказательствах. Собственно философский метод ориентируется не столько на познание, сколько на осмысление, имеющее приоритетом не гносеологические цели, а нравственно-практическое ориентирование в мире.
Метод, результат исследования, познание, научное познание, философское познание, экзистенциально-феноменологический метод
Короткий адрес: https://sciup.org/14974688
IDR: 14974688 | УДК: 101.8
Текст научной статьи Проблема метода: научный и философский подходы
В условиях современной дифференциации интеллектуальных школ и направлений очевидным фактом является обращение их представителей к широкому диапазону способов исследования, порой радикально различающихся между собой. Однако, несмотря на такую ситуацию, кажется возможным выделить два основополагающих подхода к мето- дам исследования, которые с некоторой долей условности можно квалифицировать как научный и философский.
Сегодня ни одна научная область немыслима без своего методологического аппарата. Более того, науку можно представить как совокупность методов, разрабатываемых в теории и практикуемых в эксперименте. Ее основной познавательный пафос и состоит в согласовании этих аспектов: приведение опытных данных в соответствии с формулами и логическими закономерностями.
Проблема исследовательского метода, поставленная в новоевропейской философии, являясь вообще важнейшей проблемой внутри самой науки, актуальна постольку, поскольку научные разработки всерьез признаются решающим фактором прогресса. Развитие методов непосредственно стимулирует развитие науки.
Чтобы убедиться в таком положении вещей, необходимо точнее определить понятие метода, описать его существенные черты. Вместе с тем, если метод на самом деле является душой науки, то такое рассмотрение позволит глубже проникнуть в эту своеобразно организованную сферу деятельности. В первую очередь, метод – это путь, и в этом смысле любой путь методичен, коль скоро он последователен в своей направленности. И в то же время любому пути причастен элемент познания, даже если вначале его совсем нет на пьедестале ценностей. Таким образом, метод всегда воплощает диалектику движения и остановки: процесс преодоления пути конденсируется в каплях неподвижного знания. Но в научном контексте такое широкое первоначальное толкование данного понятия приобретает характерную техническую окраску. Метод – это техника достижения результата, главной особенностью которой является универсальная схематичность последовательных операций, применимых к любому эмпирическому содержанию известного класса явлений. Возможность повторить опыт, выступая одним из общепринятых критериев научности, означает такое воспроизводство метода, когда при равных условиях одинаковая мера воздействия приводит к одинаковым итогам, поэтому метод становится научным только тогда, когда он обеспечивает предсказуемый результат, а это и подтверждает зависимость следствия от способа следования.
Благодаря философским поискам ХХ в. была открыта и обоснована ангажированность любого познания, его политическая, историческая и социально-культурная принадлежность. Концепция Фуко, где «полезное для власти или противящееся ей знание производит- ся не деятельностью познающего субъекта, но властью» [7], или идеи Уайта, согласно которым «одно и то же событие может служить в качестве различного вида элемента многих разных исторических историй [historical stories] в зависимости от роли, определяемой в специфической мотивной характеристике того набора фактов, к которому оно принадлежит» [10, p. 7], или социология политики Бурдье, виртуозно доказывающего отсутствие общественного мнения, поскольку «есть, с одной стороны, мнения сформированные, мобилизованные… и с другой стороны, – предрасположенности, которые по определению не есть мнение» [2, с. 177], – все это наглядно демонстрирует недостижимость рафинированной объективности знания.
Казалось бы, найдется средство устранить неудобный идеологический момент – и все наконец-то пойдет по плану… Однако проблема и заключается в том, что идеология захватывает любой метод – научный метод как таковой. Идеология как целенаправленный порядок действий и есть сам этот метод. Ни политические, ни исторические, ни социально-культурные контексты, – ничто так не мешает методу, как он сам мешает себе.
Таким образом, соотношение научного метода и его результата проливает свет на обе эти стороны: результат уже содержится в методе, поскольку метод очарован своим результатом: объективацией, под которую заблаговременно приспособлены применяемые им научные категории. Метод отдается во власть конкретного содержания результата, но эта конкретность есть скорее абстрактность, поскольку в таком случае реальности предшествует теория, безотчетно стремящаяся ее заменить. Это скорее желание получить результат до момента его действительного достижения, желание «обладать, не обладая» – гарантировать определенный результат, предполагаемый заранее известными параметрами, и потому, уже вписанный в их рамки, он не будет новым в том смысле, в каком он желаем методом. «Чего он хочет, когда он хочет “познания”? Ничего иного, кроме того, чтобы свести нечто чужое к чему-то знакомому» [5, с. 676].
Если теперь обратиться к науке в целом, мы увидим, что она является, во-первых, со- вокупностью формализованных алгоритмов получения знаний о мире – то есть методом, и, во-вторых, системой полученных научным методом сведений; таким образом, наука в свернутом виде – как понятие – и есть замкнутое на себя соотношение средства и цели.
И все же подобное утверждение не совсем справедливо, так как оно исключает живую мысль ученого, никак не поддающуюся внешней регистрации. Этот загадочный момент способствует разрыву сплошной ткани автоматических расчетов и закономерностей и указывает на вненаучное основание научных положений. Следовательно, настоящая наука оказывается не так проста и поверхностна, поэтому в строгом смысле уместнее говорить не о науке как особой области знания, а о моменте научного, который участвует и в философии, и в повседневности. Наука – всего лишь условное название гораздо более богатой и напряженной деятельности людей. Но тогда в той же степени условно название философии, поскольку и в ней содержится немало научности – особенно сегодня. Не случайно тезисы о конце философии в пользу научности то и дело звучат из уст самих ее представителей: вспомнить хотя бы всевозможные волны позитивизма. При таком раскладе собственно философской как раз становится та сфера провалов объективированной научности, откуда прорывается беспокойное движение мысли. Даже идеал научности, культивировавшийся в том же позитивизме или, к примеру, в концепции Гегеля, был некоторой надстройкой над первоначальной интуитивной убежденностью – в факте или Абсолютном Духе. Философского в науке так же достаточно, как и в философии – научного.
Надо сказать, что различение научного и философского моментов основывается именно на разнице природы их методологии. Способ, а не предмет рассмотрения является решающим критерием этой классификации. Предмет, по большому счету, один, только он преломляется сквозь призму того или иного глобального подхода.
Именно в силу своих особенностей философское внимание оказывается направленным на то основание, на котором уже растет и развивается сфера научного, на некоторую необходимую в ней отправную точку. «Необходимое предполагается существом науки. Соответственно следовало бы ожидать, что наука сама тоже умеет выявить внутри самой себя это не-обходимое и определить его как таковое. Но как раз этого не происходит, причем потому, что подобное по своему существу невозможно» [8, с. 346]. Здесь под понятием «не-обходимого» Хайдеггер подразумевает те большие объекты, без которых науки не имеют своего смысла: для физики это природа, для психиатрии – человек, для филологии – язык. Никакой науке недоступно подступить к собственному существу, выразить его, поскольку сама форма выражения, которой владеют эти науки не предполагает такой возможности. «Посредством математических расчетов никак нельзя выяснить, что такое сама математика» [там же]. Это неизбежное самоограничение, с обратной стороны, только и позволяет наукам быть самими собой. По сути, здесь так же поставлен акцент на научности науки – науки без думающего ученого, а его интеллектуальное творчество вынесено за скобки.
Если бы науки сами по себе могли понимать и выражать собственное существо, это бы не позволяло их четко дифференцировать, и они бы скорее сближались. Различия между научными дисциплинами лежат в плоскости аспектов, проявлений изучаемого «не-об-ходимого», и основаны на сравнении этих аспектов. Но как раз в этой операции научное не участвует, поскольку оно по определению локализовано на своей территории. Это сравнение находится уже в компетенции философского, и здесь невозможна абстрактность: даже логика, говорящая «А не есть В», никогда не сможет доказать своими приемами, почему это так. Получается, что научные сферы отграничены друг от друга как бы воздушной прослойкой философского, которое, по большому счету, и конституирует это отличие.
Методологической основой выяснения этого существа науки является уже не анализ формально-логических связей внутри самой теории, а то, что Хайдеггер называет осмыслением. «Осмысление требует большего. Оно – отдан-ность достойному вопрошания» [там же].
Таким образом, теперь возможно в общем виде озвучить уже понятную разницу между научной и философской методологиями: первая занимается освоением «теоретически значимых суждений», самопроизвольно развивающихся на основе имманентной им законности, как выразился бы Бахтин; вторая связана с непосредственным присутствием в реальности, связью с ней, по которой, как по аксону, передаются исходящие от нее импульсы, притом чаще всего в невыразимой форме. В области философского мы не можем строить самостоятельное здание теоретического знания, поскольку ни один его этаж не продержится, если мы оставим фундамент. Многоэтажное строительство – прерогатива научного. Оно делает нашу жизнь комфортной – но очень часто, вполне отдавшись этому комфорту, мы оказываемся подвешенными в воздухе. «Мы имеем не одно, а как бы два знания: отвлеченное знание о предмете, выражаемое в суждениях и понятиях, – знание… всегда вторичного порядка – и непосредственную интуицию предмета в его металогической цельности и сплошности – первичное знание, на котором основано и из которого вытекает отвлеченное знание» [6, с. 67].
Область научного напрямую связана с техническим совершенствованием. Техника, в свою очередь, в качестве средства, обеспечивает возможность управления в широком смысле как целенаправленного (и опять же предвзятого), специального воздействия. Управление возможно постольку, поскольку оно поддерживается замкнутой в себе системой логических закономерностей: если сделать это, получится то. Здесь еще присутствует момент гарантированности (на деле далеко не абсолютной, но, тем не менее, подразумеваемой), но об этом стоит упомянуть чуть позднее и в несколько ином – хотя и в том же самом – отношении.
В процессе управления уже даны отправная точка – текущее состояние управляемой системы, – и необходимый результат – ее идеальное состояние. Научный подход связывает эти два момента по поверхности – формально (хотя сама эта связь так же невозможна без участия философского, но роль его в этом случае тщательно маскируется). Для оценки степени достижения поставленного результата изобретают критерии и показатели. И они так же в первую очередь формальны – поскольку нацелены на измерение столь же формальных результатов. Разумеется, под ними могут оказаться и действительные успехи – но это уже неинтересно, поскольку действительное – лишний элемент автономной теоретической работы. Научное не обладает действительным, то есть своим существом, а «там, где неприменима категория обладания, я ни в каком смысле не могу говорить об управлении… ни, тем самым, об автономии» [4]. Управление относится не к реальности, а к тому, что под ней представляется; управление по своей природе абстрактно и неповоротливо. Оно касается только того, что подразумевается теорией управления.
Таким образом, вслед за Бахтиным, справедливо утверждать, что «общим моментом дискурсивного теоретического мышления» является «принципиальный раскол между содержанием-смыслом данного акта-деятельности и исторической действительностью его бытия, его действительной единственной пе-реживаемостью» [1, с. 7]. Так мы приходим к фундаментальной несоизмеримости содержательного (теоретического, научного) и формального (практического, философского). Эти сферы не только бесконечно различны, но также и непроницаемы друг для друга. Научная и философская методологии как таковые являются взаимоисключающими: если первая требует от своего объекта соответствовать заранее имеющимся у нее категориям (у Хайдеггера этот способ обращения с вещами называется «рассмотрением» в смысле «допроса»), то вторая, для того, чтобы оставаться самой собой, вынуждена смиренно созерцать реальность, быть открытой ее своенравности и оберегать ее. В этом состоит принципиальный экзистенциально-феноменологический характер философского подхода.
На первый взгляд может показаться по крайней мере странным и необоснованным выбор одного подхода в ущерб остальным. Однако такое впечатление объясняется уже усвоенным плюралистическим пафосом современной духовной ситуации. Мы привыкли к презумпции множественности, и всякая претензия на однозначность невольно провоцирует подозрение в авторитарном намерении. Хотя такое недоверие понятно, тем не менее здесь оно неправомерно, поскольку речь идет о чисто формальном методе, поверх которого уже потом наслаиваются технологические процедуры, обладающие жестко закрепленным содержанием. Экзистенциально-феноменологический взгляд исходит из непосредственной практики человеческого существования, из того опыта, который возникает в процессе столкновения с многообразными явлениями жизни. Он, собственно, опирается на саму жизнь, и главная цель его не в накоплении знания. Этот метод чисто условно можно отделить от самой жизни, и только на том основании, что в нем присутствует внимательность рефлексии, не всегда свойственной бытовому восприятию. Это не просто получение опыта, но и попытка разобраться в нем, причем без помощи теоретических установок, а в опоре на переживания и впечатления, в которых открываются «результаты» – тоже неотделимые от «метода», но не опережающие его, а скорее совпадающие с ним. И если в случае научности цель и способ ее достижения полагались разведенными, то теперь они являются ипостасями единой интеллектуальной активности.
Не стоит сводить экзистенциализм лишь к выражению печали и страха, к ощущению человеческой ничтожности в этом опасном мире, а феноменологию – к принципам Гуссерля или Мариона, кстати, по-своему пытавшихся онаучить философию и придать ей подобающую строгость. Экзистенциально-феноменологическая связка ориентирует не более чем на то, что в центре внимания оказывается само внимание, и философ пытается понять, что происходит в какой-либо ситуации прежде всего с ним самим. Но то, что происходит с философом, происходит само собой. Если бы что-то происходило благодаря ему, оно бы происходило с чем-то другим: тогда следовало бы констатировать управление. Напротив, философ обнаруживает себя под властью происходящего, и максимум его возможностей состоит в простом созерцании того, что происходит. Это бессилие перед стихией реального есть способ посильного понимания и пребывания в нем. «Бессилие» здесь отнюдь не означает неспособности познавать, поскольку само уличение в этом апеллирует к формально-логической стороне дела, то есть опять же к научности.
Собственно философский подход – экзистенциально-феноменологический в указанном смысле. «Остальные» подходы: структурный, функциональный, исторический, диалектический… – существуют уже в другой плоскости, на уровне инструментального анализа. Эти подходы подходят к рассмотрению содержания реальности, а не самой реальности. «В своей основе метод всегда один и тот же: углубление некоего метафизического состояния, о котором недостаточно сказать, что оно мое, так как оно, в сущности, заключается в том, чтобы быть мною» [4].
Проблема знания и познания в собственно философском методе превращается в проблему понятия и понимания, вопросы технологии и управления – в вопросы мышления и поступка. Иными словами, фокус смещается с общих мест на индивидуальное пространство бытия, с официальных норм допустимого, несущих отпечаток конвенциональности, на личную ответственность и «мужество пользоваться своим умом». Если научный подход поддерживает расстояние между ученым и последствиями его деятельности, то в философии результат слит с философствованием в одно. Философ не может вести себя отдельно от своей мысли, и то, к чему она приводит, интегрировано с его философским действием: результат испытывается во время его получения.
Отсутствие механических связей в сущности философского метода означает невозможность опереться на какую-то внешнюю по отношению к человеку силу. Единственное, что работает – сам человек, и потому этот подход никак нельзя объективировать, нельзя его перевести в режим научного, наглядно доступного для другого без его аналогичного личного труда. Этот метод не дан до его реализации, а теоретически может быть оформлен лишь по своему практическому осуществлению, в некотором смысле странному и внезапному, «неправильному» с точки зрения традиционного, реактивного – то есть первого возникающего отношения к ситуации. Именно поэтому он не ориентирован на получение знания, выступающего здесь как бы побочным продуктом, материалом для последующей теоретической квалификации извлеченных из опыта смысловых интонаций. Собственно философский подход действует по необходимости, а не от лю- бознательности. В первом приближении это необходимость решения жизненных задач, от которого зависит, как все сложится, а в пределе – необходимость соответствовать реальности как таковой. Здесь очевидна противоположная научной позиция: не реальность должна быть соразмерной сетке наших представлений о ней, а мы сами – реальности. Так мы добиваемся непредвзятости – но нельзя сказать, что она для нас теперь играет какую-то роль, что она теперь нам как-то по-особому важна, поскольку мы уже другие, и решаем практические, а не гносеологические проблемы. Таким образом, устранение субъективности из познания может означать только отказ от его приоритетного положения, но такой отказ, который сам не является целью. Бессмысленно ждать чуда, специально отказавшись от познания, но в то же время коварно лелея тайную мысль о нем. «В таком случае… абсолютное… уж конечно посмеялось бы над этой хитростью. Ибо именно хитростью было бы в этом случае познавание, так как оно постоянно старалось бы сделать вид, что занято чем-то иным» [3, с. 89]. Познание становится спутником, сопровождающим лицом, но не предметом поклонения.
Если собственно философский метод возможен только на индивидуальном примере, если ссылка на любой общезначимый факт бесполезна перед ликом реальности, тогда и нет никакой гарантии того, что этот путь все-таки куда-нибудь приведет, все-таки даст ответ на наши вопросы. Нет и подготовленного плана действий; мы не знаем, как все произойдет и что из этого получится, более того, неизвестно и то, как мы поведем себя. А потому риск становится абсолютным. Попадая в такую ситуацию, мы лишаемся даже возможности на что-то надеяться, все зависит от нашего действия здесь и сейчас. Но только такое «выпадение из состояний устойчивости и прочности, которые были, впрочем, совершенно обманчивы, оборачивается способностью к парению: что казалось пропастью, становится пространством свободы, кажущееся ничто оборачивается тем, откуда с нами заговаривает подлинное бытие» [9]. Нужно лишь достаточно решимости, решимости какой-то загадочной природы, чтобы наконец совершить этот шаг и выйти навстречу реальности.
Список литературы Проблема метода: научный и философский подходы
- Бахтин, М. М. К философии поступка/М. М. Бахтин//Собр. соч.: в 7 т. -М.: Русские словари: Языки славянских культур, 2003. -Т. 1. -959 с.
- Бурдье, П. Общественное мнение не существует/П. Бурдье//Бурдье П. Социология политики. -М.: Socio-Logos, 1993. -336 с.
- Гегель, Г. В.Ф. Феноменология духа/Г. В. Ф. Гегель. -М.: Академический Проект, 2008. -767 с.
- Марсель, Г. Метафизический дневник. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://agnuz.info/app/webroot/library/90/66/page01.htm -Загл. с экрана.
- Ницше, Ф. Веселая наука/Ф. Ницше//Сочинения.: В 2 т. -М.: Мысль, 1990. -Т. 1. -829 с.
- Франк, С. Л. Непостижимое: Онтологическое введение в философию религии. М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2007. -506 с.
- Фуко, М. Надзирать и наказывать. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://royallib.ru/read/fuko_mishel/nadzirat_i_nakazivat_rogdenie_tyurmi.html#0. -Загл. с экрана.
- Хайдеггер, М. Наука и осмысление/М. Хайдеггер//Время и бытие: статьи и выступления. Спб.: Наука, 2007. -621 с.
- Ясперс, К. Введение в философию/К. Ясперс. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://royallib.ru/read/yaspers_karl/vvedenie_v_filosofiyu.html#81920. -Загл. с экрана.
- White, H. Metahistory: the Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe/H. White. -Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1975. -448 p.