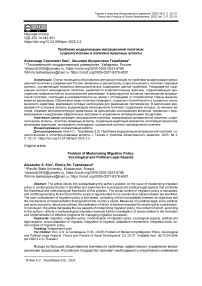Проблема модернизации миграционной политики: социологические и политико-правовые аспекты
Автор: Ким А.С., Тешебаева Э.Ш.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 3, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена обоснованию авторской позиции по проблеме модернизации миграционной политики в современной России. Выявлены и рассмотрены социологические и политико-правовые аспекты, составляющие теоретико-методологическое содержание данной проблемы. Раскрывается социальный контекст миграционной политики, выявляются конфликтогенные факторы, ограничивающие пространство возможностей ее конструктивной реализации. Формулируется основное противоречие миграционной политики, состоящее в несовместимости ее целей с отстающими от потребностей страны механизмами ее реализации. Обозначены меры политико-правового, социально-политического и социально-экономического характера, реализация которых необходима для разрешения противоречия. В заключение раскрываются основные аспекты модернизации миграционной политики, содержание которых, по мнению авторов, отражает методологическую ориентацию на дальнейшее исследование вопросов, связанных с формированием и внедрением эффективных программ по управлению миграционными процессами.
Миграция, миграционная политика, модернизация миграционной политики, социологические аспекты, политико-правовые аспекты, социальная адаптация мигрантов, интеграция мигрантов, механизмы адаптации, инструменты интеграции, социальный контекст миграционной политики
Короткий адрес: https://sciup.org/149148270
IDR: 149148270 | УДК: 325.14:342.951 | DOI: 10.24158/tipor.2025.3.2
Текст научной статьи Проблема модернизации миграционной политики: социологические и политико-правовые аспекты
,
,
миграционной политики, о чем свидетельствует периодическое обновление программных документов и принятие новых1. Однако «на текущий момент концептуальные попытки найти место и роль прежде всего трудовой миграции в стратегии развития новой России носят пока довольно схематичный и формальный характер» (Попова и др., 2023: 43). Именно поэтому как в исследовательском, так и в практическом отношении актуально выявление и обсуждение основных вопросов, составляющих проблематику модернизации миграционной политики, понимаемой как совокупность однонаправленных социальных действий акторов миграционной политики по приведению ее в соответствие с новыми требованиями, вызванными современными реалиями российского общества и изменениями в международной политической и экономической обстановке.
Целью настоящей статьи является раскрытие проблематики такой модернизации не только посредством рассмотрения причин, вызывающих ее необходимость, но и через выявление ее основного противоречия и направлений его разрешения. Тем самым мы приглашаем к обсуждению не только ученых, но и широкий круг лиц, вовлеченных в процессы решения вопросов миграционной политики, – государственных и муниципальных служащих, специалистов, работающих в сферах образования, экономики, социальной защиты, культуры и т. п. В качестве методологического инструментария выбран социологический и политико-правовой анализ миграционной ситуации и миграционных практик. Объектом исследования выступает социальный контекст (социальная среда) миграционной политики, сформировавшийся за последние два десятилетия в России. Предмет изучения составляют связи и отношения, обусловливающие конфликтогенный характер этого контекста в современной России в сопоставлении с опытом стран Запада, связанным с постиндустриальными миграционными практиками конца XX – начала XXI в. В совокупности все это определило методологическую и информационную основу исследования, содержащую обзорный анализ научных публикаций, вышедших не только за последние 5 лет, но и в более ранние периоды осмысления миграционных процессов и миграционной политики.
В России в первое десятилетие 2000-х гг. наблюдалось колебание между либеральной и рестрикционной типами миграционной политики (Мукомель, 2024: 128). С точки зрения междисциплинарности методологического рассмотрения можно увидеть, что в отечественных исследованиях (как политико-социологического характера, так и политико-правового) за последние 5 лет содержательно раскрыта динамика такого балансирования. Так, в 2019 г. российские исследователи-правоведы в сфере миграционной политики отмечали, что современная миграционная стратегия РФ начала формироваться в условиях изменений, произошедших на постсоветском пространстве в 90-х гг. XX в. Тогда на государственном уровне были предприняты первые попытки официального формулирования концепций и взглядов на миграционную ситуацию в условиях, когда после распада СССР было необходимо в короткие сроки наладить управление миграционными потоками. Отсутствие опыта в этой области сказалось на положениях и расставленных акцентах в реализации государственной миграционной политики. Например, были провозглашены защита прав и интересов мигрантов, создание условий для их беспрепятственной реализации, обеспечение гуманного отношения к категории вынужденных мигрантов (Озеров и др., 2019: 71).
Динамика развития общественных отношений в миграционной сфере обусловливала изменения как правовых взглядов на феномен миграции, так и социально-политических. С этой точки зрения заслуживает внимания исследование трансформации миграционной политики России в постсоветский период, проведенное в 2023 г. специалистами Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского центра Российской академии наук (Попова и др., 2023). На основе анализа около 100 основополагающих документов миграционной политики страны с 1989 по 2023 г. выявлены изменения в принципиальных подходах органов власти в отношении миграции и соответствующие перемены правового и институционального характера. Авторы пришли к выводу, что в последние годы в миграционной политике все шире используются технологии адаптивного управления, это подразумевает риски для ее долгосрочного целеполагания (Попова и др., 2023: 25). Политический курс колеблется между двумя одинаково значимыми приоритетами: интересами национальной безопасности и интересами экономического развития. На уровне практики меры обеспечения этих приоритетов реализуются разными управленческими блоками (правоохранительным и социально-экономическим), конкурирующими между собой. Вследствие этого российская миграционная политика имеет противоречивый характер и отличается двойной адаптивностью. С одной стороны, изменения объясняются смещением баланса в стратегических подходах к феномену миграции (представляется ли миграция безусловной угрозой либо ресурсом для решения текущих экономических проблем в условиях недостатка трудовых ресурсов). С другой стороны, миграционная политика постоянно приспосабливается к воздействию вновь возникающих, часто неожиданных внешних вызовов (пандемии коронавируса, СВО, западных санкций и т. д.) (Попова и др., 2023: 42).
Исходя из изложенного, в методологическом плане целесообразно определить предмет миграционной политики, т. е. те связи и отношения, которые должны быть исследованы и подвергнуты управленческому воздействию в долгосрочном, стратегическом плане независимо от вызовов внешней среды. С точки зрения социологических и политико-правовых аспектов проблемы модернизации миграционной политики ее предмет составляют: 1) вопросы влияния миграции на принимающее общество (рынок труда, занятость, социальную структуру и стратификацию, социальнокультурные и демографические процессы); 2) проблемы взаимодействия между мигрантами и старожильческим (местным) населением (их взаимное социально-психологическое и социально-культурное восприятие, межэтническая и межконфессиональная коммуникация, характер, направленность, масштабы и формы межэтнической конфликтогенности); 3) политическая проблематика миграционных процессов (вопросы использования мигрантофобии и этнического национализма в борьбе за власть и общественное влияние, этнополитическая мобилизация как местного населения, так и диаспоральных меньшинств, проявления экстремизма и терроризма на этнической и религиозной почве со стороны как принимающего общества, так и мигрантов); 4) проблемы подготовленности правовых институтов общества (нормативно-правовая база и механизмы правоприменения), ориентированных на реализацию миграционной политики.
Социальным контекстом связей и отношений, составляющих предмет миграционной политики в странах приема вообще и в России в частности, являются следующие обстоятельства. Старение населения и увеличение дефицита рабочей силы в различных секторах общественного производства обусловливают значимость мигрантов как важного ресурса для экономического роста. Одновременно это сопровождается повышением уровня социальной напряженности, поскольку возрастает нагрузка на учреждения, осуществляющими медицинское и социальное обслуживание и социальную защиту населения, а также образовательную деятельность. Как полагают некоторые известные отечественные исследователи миграции, в условиях актуальных глобальных вызовов в России фактически отсутствуют эффективные механизмы интеграции мигрантов в принимающий социум (Константинов, 2022), действенные программы адаптации и интеграции иностранных граждан, временно находящихся на территории РФ (Константинов, 2024: 93). Именно поэтому культурно-языковые и религиозно-конфессиональные различия становятся фактором проблематизации межкультурной и межэтнической коммуникации. Это, в свою очередь, усиливает социальную изоляцию и сепарацию мигрантов, приводя к формированию этнических анклавов, где в условиях углубляющегося социального неравенства и экономической нестабильности увеличиваются риски роста преступности, распространения этнического и религиозного экстремизма. Негативному восприятию мигрантов местным населением с неизбежностью способствует и нарастающее совпадение этнических и религиозных различий с различиями социально-классового и профессионального характера.
Как показал опыт миграционных практик постиндустриальных стран Западной Европы и Северной Америки, путь технологического прорыва в их социально-экономическом развитии в сочетании с политикой мультикультурализма сопровождался негативными издержками. Да, в период индустриализации 1950–1960-х гг. включенность в производственные процессы способствовала позитивной интеграции иностранных работников. У них формировались серьезные стимулы для повышения личной конкурентоспособности, культурного уровня, овладения новыми знаниями и навыками. При этом индустриальный труд содействовал интенсификации взаимодействия между местным населением и иммигрантами. Однако в процессе постиндустриальной трансформации западного общества этот адаптационный механизм разрушился, вследствие чего запустились следующие противоположные и одновременно взаимосвязанные процессы.
С одной стороны, деиндустриализация, обусловленная научно-технической революцией в инфраструктуре западных обществ, привела к резкому и быстрому сокращению потребностей промышленного производства в трудовых ресурсах. Следствием этого стало формирование нового социального слоя, состоящего из низкооплачиваемых работников сферы услуг, получателей пособий и т. п. Как следствие, произошло значительное снижение эффективности мультикульту-ралистской политики, поскольку существенную часть этого слоя представляли иммигранты и их потомки, социальный разрыв между ними и местным населением приобрел характер этнического (а нередко и конфессионального) противостояния (Константинов, Зелев, 2007: 65–66).
С другой стороны, мультикультуралистская модель интеграции обусловила патерналистский характер социальной политики, которая в условиях сохранения в иммигрантской среде традиционного типа семьи с большим количеством детей привела к резкому увеличению доли безработных и иждивенцев. Так, к середине 1990-х гг. в восьми государствах Европейского союза доля иммигрантов, трудившихся в производственной сфере, была менее 50 %. В США иммигранты, составлявшие к 2002 г. около 10 % населения, получали почти в 2 раза больше социальных пособий, чем американские граждане, что не могло не вызвать недовольство последних.
Таким образом, глобальное внедрение результатов интеллектуальной деятельности в рамках научно-технического прогресса, приводящее к повышению производительности труда, автоматизации и формированию цифровой экономики, не компенсирует потребность в сфере услуг, где по-прежнему востребованы неквалифицированные работники. Революционная технологическая трансформация социально-экономической структуры стран Запада, обеспечив высокий уровень и качество жизни населения, привела при этом к глубокому социальному расколу постиндустриального общества по этническим и религиозным линиям (Константинов, Зелев, 2007: 66). Здесь уместно привести высказывание Б. Фоллмера о том, что между 1973 и 1999 гг. траекторию принятия решений в европейской миграционной политике определяло не применение научно обоснованных методов, а эмоции и идеология (Бородкин, Внутских, 2023: 301–302). Произошедший в середине 2010-х гг. сдвиг в европейской миграционной политике, связанный с демонизацией и постановкой вне закона многочисленных групп людей, перемещающихся через европейские границы, Б. Фоллмер квалифицирует как «продолжающийся позор Европы» (Vollmer, 2017).
Для адекватного понимания трансформации миграционной политики в западных странах ее целесообразно рассматривать в контексте парадоксов и противоречий, присущих управлению миграционными процессами в эпоху глобализации, которые выявляются в исследованиях многих российских и зарубежных ученых за последние два десятилетия. Проведенный ими анализ показывает, что на рубеже XX и XXI вв. в постиндустриальном мире наблюдаются следующие тенденции: 1) снижение интеграционного потенциала принимающих обществ в результате неудачных попыток реализации мультикультуралистских моделей миграционной политики; 2) в условиях объективно возрастающих масштабов транснациональной миграции, стимулируемых потребностями рынков труда, все более затруднительным становится поиск оптимальных моделей интеграции мигрантов; 3) политика социального патернализма в условиях роста экономики и повышения уровня жизни приводит к увеличению миграционного давления на социальную сферу, провоцирует перераспределение доходов в ущерб местному населению, вызывая антиинтегра-ционные, алармистские настроения в принимающем обществе (Бородкин, Внутских, 2023; Ивах-нюк, 2016; Потемкина, 2020; Сарайкина, 2021; Симон, 2018). Также с методологической точки зрения эвристическую ценность имеет изучение зарубежными исследователями следующих феноменов: 1) послевоенного и постколониального миграционного воздействия на Западную Европу, имеющего этнический, конфессиональный и социально-демографический характер; 2) явлений этничности, идентичности, национализма и ассимиляции; 3) многосоставных миграционных потоков в странах Восточной и Западной Европы в исторической динамике (Брубейкер, 2012: 214–238, 267–289; Коулмен, 2007). Результаты указанных исследований целесообразно использовать для лучшего понимания тенденций изменения обществ приема мигрантов, прогнозирования, выявления и учета тех конфликтогенных факторов, которые ограничивают пространство реализации конструктивной миграционной политики.
Применительно к современной России к числу таких факторов следует отнести прежде всего проблему политико-правовой институционализации. Главная особенность этой проблемы состоит в том, что в России на сегодняшний день окончательно не сформирована базовая интеграционная модель миграционной политики. Это приводит к большим сложностям в выборе инструментов. В законодательстве Российской Федерации используются такие смежные понятия, как «социальная и культурная адаптация мигрантов» и «социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов», в документах стратегического планирования применяется также понятие «социальная и культурная адаптация иностранных граждан и их интеграция в российское общество». При этом на региональный и муниципальный уровни осуществления публичной власти отнесены аспекты, связанные с адаптацией иностранных граждан, но не их интеграцией, что обусловливает постановку вопроса о необходимости согласования норм действующего законодательства и унификации понятийно-категориального аппарата (при условии, что не предполагается в дальнейшем разграничивать категории «адаптация» и «интеграция»). Предусмотренные как на федеральном, так и на региональном уровне в документах стратегического планирования мероприятия по социальной и культурной адаптации и интеграции ориентированы преимущественно на иностранных граждан, хотя нужно серьезно работать и с принимающим обществом. Все это демонстрирует незавершенность формирования механизма социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации1.
С точки зрения политико-правовой институционализации миграционной политики следует обратить внимание на то, что в миграционном законодательстве Российской Федерации предусмотрены в основном общие меры по адаптации и интеграции. Существующие практические подходы в применении законодательства к интеграции и адаптации мигрантов сфокусированы преимущественно на социально-культурном аспекте и явно недостаточно учитывают социально-эко- номический характер мотивации приезда большинства иностранных граждан, а следовательно, вопросы их участия в рынке труда, содействия повышению квалификации, технической подготовки (Андриченко, Плюгина, 2022: 291–300). При этом явно недостаточной представляется дифференциация мер адаптации и интеграции в отношении отдельных категорий иностранных граждан. При этом за последние несколько лет значимыми в ряде групп иммигрантов становятся мотивы, связанные с образовательными и социальными запросами. Как правило, эти группы включают в себя имеющих квалификацию жителей крупных городов бывших советских республик, характеризующихся высоким уровнем проникновения «русского» и «советского», а русская культура и русский язык приравнивались к городской культуре, противопоставляемой низкостатусной культуре жителей сельской местности (Бляхер, Леонтьева, 2023: 91).
Другой фактор, придающий институционализации миграционной политики конфликтогенный характер, имеет идейно-психологическую направленность. Длительное пребывание на российских территориях групп мигрантов, регулярно сменяющих друг друга, нарушает межэтнический баланс на рынке труда и привычный для населения баланс межэтнического повседневного общения, что содействует формированию у местного населения интолерантных установок (Дмитриев, Пядухов, 2006: 90). Такой тип восприятия предопределен, по мнению отечественных исследователей, не столько социально-экономическими причинами, сколько более глубоким общественном феноменом. В процессе «шоковой терапии» 1990-х гг. произошла деиндустриализация общества, способствовавшая размыванию социальной и классовой солидарности, примитивизации духовной культуры, нравственной и мировоззренческой деградации. Трудности адаптации к постсоветским реалиям усиливают риски возникновения у различных слоев населения состояния социально-экономического дискомфорта и культурно-психологической деструкции. В условиях отсутствия в постсоветском социуме серьезного профсоюзного движения, зрелых институтов гражданского общества произошла утрата советского опыта мультикультурализма (советского интернационализма) и политкорректности, которая обусловила феномен постсоветского обращения к архаике, основанной на органике, крови (этносе, семье, расе) (Константинов, Зелев, 2007: 69). Как следствие, получает широкое распространение ксенофобия, выступающая в диффузной, безадресной форме и замещающая более глубинные, слабо осознанные личностные формы социального недовольства (Паин, 2023: 322).
Следующим масштабным конфликтогенным фактором является реализация миграционной политики на региональном уровне, характеризующаяся противоречивым взаимодействием институциональных практик. Институционализация миграционной политики представляется многосоставным социальным процессом, субъектами которого выступают представители различных социальных групп и кругов, предлагающие пути регулирования миграции на основе своих установок, потребностей и интересов. В число субъектов миграционной политики входят, помимо региональных представительств федеральных органов, структуры региональной власти, бизнес-сообщества, органы местного самоуправления, локальные (территориальные) сообщества, средства массовой информации и т. д. Противоречия в сфере миграционной политики могут возникать даже между двумя уровнями в рамках субъекта Федерации (край – город, край – район и т. д.), местного самоуправления (район – город, город – поселок и т. д.). Например, если позиция региональной (краевой) власти отражает базовые положения федеральной миграционной политики, то на более низком уровне местного самоуправления трудовые мигранты могут восприниматься как один из важнейших факторов благополучия локальных поселений (Бляхер, Григоричев, 2011: 55, 57).
С одной стороны, органы региональной власти, пытаясь снизить социальную напряженность, могут взять курс на ужесточение миграционной политики. По мнению губернатора Хабаровского края Д. Демешина, государство должно усиливать «заградительную» политику, поскольку вызовы, связанные с миграцией, требуют серьезных ответных мер: к тем, кто нарушает закон и не проявляет уважения к местным жителям, необходимо принимать жесткие меры. Действенными методами борьбы с нелегальной миграцией и ее деструктивными последствиями глава региона считает следующие: 1) ужесточение карательных мер не для самих нелегалов, а для тех, кто пускает их в Россию; 2) упрощение процедуры выдворения; 3) поднятие престижа работы в России путем введения квот на количество рабочих мест для иностранцев; 4) проведение скоординированной межведомственной профилактики преступности1. 7 ноября 2024 г. было подписано постановление губернатора Хабаровского края о запрете с 2025 г. привлечения иностранных граждан с патентами на работу в общественном транспорте, такси, на предприятиях, оказывающих услуги по электрическому, газовому и водопроводному снабжению, на работу по найму на физических лиц, в частных хозяйствах, производящих товары и услуги для собственного потребления1. Подобные ограничения установлены с 2025 г. и на территориях Сахалинской области и Камчатского края, а в Приморском крае введен запрет на 41 вид экономической деятельности, что вызвало большой резонанс в предпринимательской среде. Так, владелец одной из транспортных компаний полагает, что более 80 % автопарка попадет в простой, он также не исключил риски прекращения деятельности из-за больших издержек и отсутствия поступления средств. На основе информации руководителей автотранспортных предприятий администрация Владивостока уведомила правительство Приморского края о прогнозировании дефицита водительского состава на муниципальных маршрутах в среднем в объеме 20–25 % в случае введения запретов2.
С другой стороны, власть, несмотря на принимаемые ограничительные меры, вынуждена признавать значимость мигрантов в решении проблем недостатка трудовых ресурсов. Так, по мнению губернатора Хабаровского края Д. Демешина, существует тонкая грань, проявляющаяся в том, что государство, усиливая «заградительную» политику, должно соблюдать баланс. Следует избежать дефицита рабочей силы, однако необходимо обеспечить социальную защиту населения региона. Отвечая на федеральный посыл, власти Хабаровского края на общественно-политическом уровне декларируют и осуществляют меры содействия адаптации и интеграции мигрантов, в целях позитивного межкультурного общения на территории региона поддерживается формирование и функционирование институтов поддержки этнической идентичности (Сулейманов, 2013: 197).
Необходимо отметить, что колебание маятника миграционной политики вызвано не только сложным и противоречивым взаимодействием интересов различных акторов миграционной политики, но и другими сложившимися за последние 30 лет обстоятельствами, на которые еще в стадии формирования обращали внимание российские исследователи в области этнополитики и миграции. Институционализация региональной миграционной политики часто обусловлена реальными практиками социального взаимодействия в различных сферах общественной жизни, складывающимися на территории региона. Объективно существуют различные уровни таких практик, в том числе так называемая «народная миграционная политика», возникающая в процессе повседневных обыденных взаимодействий. Именно на их уровне происходит «материализация» миграционной политики, которая может отчасти совпадать (или совсем не совпадать) с рамочными условиями, задаваемыми на других уровнях. Уровень «народной миграционной политики», накладываясь на официальный уровень, приводит к своеобразному мультипликативному эффекту. Он проявляется в том, что на повседневном уровне «вырабатывается репертуар практик, рождаются иррациональные (или рациональные) страхи и предпочтения, которые фиксируются на более высоких уровнях концептуализации миграционной политики, нередко закрепляясь в виде правовых норм» (Бляхер, Григоричев, 2011: 35).
Таким образом, анализ социального контекста миграционной политики выявил наличие конфликтогенных условий, сужающих пространство ее конструктивной модернизации. По нашему мнению, это позволяет обозначить основное противоречие миграционной политики, состоящее в несовместимости ее целей в плане позитивного социально-экономического, демографического и социально-культурного развития с отстающими от потребностей страны механизмами регулирования миграционных процессов и реализации мер миграционной политики. Практика показывает, что только отдельных законодательных изменений и частичных мер недостаточно. Именно поэтому разрешение данного противоречия предполагает расширение пространства модернизации миграционной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях посредством реализации комплексного подхода, включающего как политико-правовые меры, так и меры социальнополитического и социально-экономического характера.
В политико-правовом отношении прежде всего необходимо принять следующие меры: 1) более четко разграничить полномочия органов государственной власти в сфере реализации государственной миграционной политики на федеральном, региональном и местном уровнях; 2) обеспечить научно обоснованную оценку и унификацию используемого в законодательстве понятийнокатегориального аппарата в целях четкого понимания предмета управления миграционными процессами; 3) заложить нормативно-правовые основы обеспечения эффективного взаимодействия институтов принимающего общества с иностранными гражданами и механизмы их реализации; 4) осуществить политико-правовую экспертизу механизмов и мер, применяемых в деятельности по социальной и культурной адаптации и интеграции, в целях оценки их эффективности и возможности дальнейшей реализации и совершенствования.
В социально-политическом отношении следует уделить особое внимание раннему предупреждению и противодействию проявлений этнической и расовой ксенофобии, экстремизма на этнической и религиозной почве. С этой целью на общенациональном, региональном и местном уровнях необходимо внедрять научно обоснованные программы, ориентированные на конструктивную культурно-языковую, образовательно-воспитательную и социально-профессиональную интеграцию мигрантов, и использовать эффективный инструментарий их реализации. Миграционные процессы – это пространство с двусторонним движением. Следовательно, интеграционная политика должна в обязательном порядке включать и работу с населением принимающего общества. Именно поэтому с учетом региональной и местной специфики целесообразно принятие комплексных решений по разработке специальных программ, ориентированных на повышение культуры межнационального и межконфессионального общения коренного населения. Они должны предусматривать создание информационных, образовательно-воспитательных и пропагандистских механизмов и практик по повышению уровня знаний коренного населения о странах исхода мигрантов и их культуре, вкладе в региональную и местную экономику, по конструктивному изменению моделей поведения в межэтническом и межконфессиональном общении. Важны также конструктивное взаимодействие со СМИ, мотивирующее на соблюдение законодательства, усиление гражданской ответственности, повышение компетентности и профессионализма в освещении общественной жизни, конфликтологический мониторинг информации на предмет ее возможного влияния на характер и направленность обсуждения миграционной и национальной проблематики.
В социально-экономическом плане необходимо такое управленческое воздействие на социальный контекст (условия) миграционной политики, в результате которого бы минимизировались, а в идеале – предотвращались угрозы совпадения общественного разделения труда с этническими и религиозными различиями. С этой точки зрения на территориях, характеризующихся высокой внешней миграционной активностью, этнической и религиозной многосоставностью населения, а также в приграничных районах Дальнего Востока требуется реализация эффективной пространственной региональной политики. Она призвана обеспечивать защиту регионального рынка труда посредством соответствующих мер по сокращению дисбаланса спроса и предложения, конструктивному регулированию процессов занятости. Пространственная региональная политика предполагает конструктивное использование миграционного ресурса в целях экономического, социально-инфраструктурного, демографического развития российских регионов и повышения качества жизни местного населения. Для достижения этих целей необходима реализация следующих задач: 1) формирование гибкой системы расселения, учитывающей региональное и местное многообразие укладов жизни населения; 2) применение механизмов при- и трансграничного сотрудничества в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития приграничных регионов и формирования условий для развития международных культурных и гуманитарных связей; 3) обеспечение доступности социального и медицинского обслуживания граждан в отдаленных и труднодоступных районах.
В заключение целесообразно выделить два главных аспекта модернизации миграционной политики: объективный и субъективный. Первый включает вопросы предотвращения и устранения объективных условий и факторов, способствующих воспроизводству криминализации миграционных процессов, состоящих в коррупции органов миграционного регулирования, незаконной предпринимательской деятельности с применением эксплуатации иностранных работников, нелегальной миграции, связанной с нарушением режима пребывания, нелегальной трудовой деятельности, этнической преступности в миграционной среде, преступности среди местного населения, вызванной мигрантофобией и влиянием экстремистской идеологии. Также в содержание первого аспекта входит круг вопросов по глубокому предупреждению объективных условий прежде всего экономического и социально-культурного характера, способствующих формированию межэтнических конфликтов и препятствующих эффективной адаптации и интеграции.
Второй аспект состоит из проблем противодействия негативному отношению широких слоев общества к иностранным гражданам. Значимость данного аспекта обусловлена тем, что без решения вопросов, связанных с предупреждением и преодолением массовой распространенности бытового национализма и шовинизма, формированием культуры межэтнического и межнационального общения, невозможна конструктивная корректировка миграционной политики. В противном случае в обществе с неизбежностью будут воспроизводиться контрпродуктивные установки, блокирующие реализацию даже самых продуманных интеграционных программ. Эти установки получат шанс оказания деструктивного влияния на институционализацию миграционной политики. Именно поэтому ее полноценная модернизация может быть реализована только при условии вытеснения (а в случаях активного противодействия – и изгнания) любых форм национализма и расизма из публичных сфер общественной жизни с применением политико-правовых, образовательно-воспитательных и культурно-информационных мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Содержание указанных аспектов целесообразно рассматривать через призму проблемы выявления пределов изменчивости миграционной политики, под которой подразумевается способность ее адаптации к неожиданным сильным внешним вызовам без ущерба для стратегических целей (Попова и др., 2023: 42). Поскольку в настоящее время практически отсутствуют исследования, позволяющие понять, каким образом резкие колебания курса миграционной политики влияют на текущее социальное развитие, то постановку названных проблем можно расценивать как методологическую ориентацию, своего рода заявку на дальнейшее более глубокое изучение модернизации миграционной политики на предмет прикладного социологического исследования вопросов, связанных с формированием и внедрением эффективных программ управления миграционными процессами.