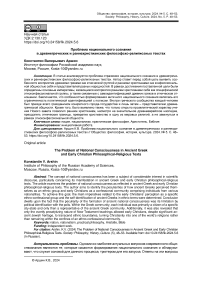Проблема национального сознания в древнегреческих и раннехристианских философско-религиозных текстах
Автор: Аршин К.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 5, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется проблема отражения национального сознания в древнегреческих и раннехристианских философско-религиозных текстах. Автор ставит перед собой цель выявить особенности восприятия древними греками как этнической группой и ранними христианами как конфессиональной общностью себя и представителей разных народностей. В рамках достижения поставленной цели были определены основные императивы, касающиеся восприятия ранними христианами себя как специфической этноконфессиональной группы, а также связанные с самоидентификацией древних греков в этническом отношении. Заключается, что особенностью формирования античного национального сознания являлась его ограниченность политической идентификацией с полисом. Внутри греческого сообщества каждый человек был прежде всего гражданином конкретного города-государства и лишь затем - представителем древнегреческой общности. Кроме того, было выявлено также, что только открыто прозелитический характер учения Нового завета позволил ранним христианам, несмотря на значительное древнееврейское наследие, преодолеть этнические границы, превратив христианство в одну из мировых религий, а не замкнуться в рамках этноконфессиональной общности.
Нация, национализм, практическая философия, аристотель, библия
Короткий адрес: https://sciup.org/149145922
IDR: 149145922 | УДК: 2:130.123 | DOI: 10.24158/fik.2024.5.6
Текст научной статьи Проблема национального сознания в древнегреческих и раннехристианских философско-религиозных текстах
составляют суть современных направлений в исследовании таких феноменов социальной реальности, как нация и национализм, – конструктивизма и примордиализма (или этносимволизма).
Представители первого полагают, что национальное сознание – это продукт «национальных (этнических) предпринимателей», интеллектуалов, которые использовали специальные стратегии для того, чтобы сформировать общее сознание у групп для собственных целей. Более того, содержание национального сознания, с точки зрения конструктивистов, всегда относительно. Соответственно, отождествление себя с той или иной национальной группой в разные исторические периоды предполагает использование уникальных аксиологических матриц, в которые помещает себя человек (Strategies of Distinctions. The Construction of Ethnic Communities, 300–800 …, 1998).
Примордиалисты и этносимволисты считают, что национальное сознание является либо врожденным, то есть оно обусловлено определенными биологическими структурами внутри мозга, либо определяется культурными особенностями групп, причем теми, которые формировались в течение длительного исторического развития и в силу этого не могут быть подвергнуты масштабной трансформации в относительно короткий период времени. К таковым можно отнести, например, самоназвание, единый язык, ассоциацию себя с определенной территорией (Smith, 1986).
Каждая из стратегий имеет свои сильные и слабые стороны. Однако именно этносимволисты обратили внимание на историческую обусловленность национального сознания современного человека, наличие определенных культурных императивов, ставших основой для его актуализации.
Поскольку именно европейская цивилизация стала колыбелью формирования феноменов нации и национализма, а в самой ее основе лежат греко-римские и христианские ценности, представляется актуальным рассмотреть вопрос о том, какие именно особенности мышления древних греков и ранних христиан, отразившиеся в наиболее важных их текстах, легли в основу формирования национального сознания у европейских народов раннего Нового времени (Пиков, 2016). Изложенное позволяет определить цель статьи, которая заключается в выявлении принципов осознания древними греками и ранними христианами себя как особых общностей и восприятия ими представителей иных этнических групп.
В рамках достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:
-
– определить основные императивы, касающиеся восприятия ранними христианами себя как специфической этноконфессиональной группы на основании анализа Ветхого завета;
-
– установить ключевые принципы самоосознания древних греков как этнической группы.
В статье используются методологические принципы практической философии (Практическая и прикладная философия …, 2024).
Основная часть . Говорить о национальном сознании применительно к эпохам, предшествующим Новому времени, не принято. Однако один из отцов-основателей данной концепции (nationalism studies) Г. Кон в книге «The Idea of Nationalism» (Kohn, 2008) начинает изучение формирования национального сознания у европейских народов с обращения к античной философии и раннехристианской мысли, находя там, в глубине веков, предпосылки, которые впоследствии сделали возможным формирование национального сознания у европейских народов раннего Нового времени. Г. Кон откровенно пишет: «Эти две цивилизации [Древний Израиль и Древняя Греция – прим. К.А.] <…> единственные развили те важные черты, которые характеризуют современную идею национализма» (Kohn, 2008: 27), а именно: «новое сознание, которое дало каждому члену [этнической] группы знание о специальной миссии, возложенной на эту группу и отличающую их от всех других народов» (Kohn, 2008: 27). Далее эта идея специальной миссии будет представлена как идея о некоей божественной миссии, которая преломилась впоследствии в размышлениях английских пуритан, русских мыслителей, немецких философов.
Прежде всего, следует обратить внимание на то, в Библии1 понятие о специальной миссии, возложенной Богом на своих последователей, соотносится со особым пониманием истории как необратимого потока времени, направленного из прошлого в будущее, уникальным среди древних народов мира, для которых было свойственно циклически-спиралевидное восприятие времени. Как писал немецкий исследователь Г. Рад, «у большинства народов древности <…> существование в истории, в необратимом потоке времени не стало <…> предметом размышления <…>, им даже не приходило в голову ряд исторических событий связывать причинно-следственной связью» (Рад, 1997: 485). Представляется, что подобное понимание времени было наследием христиан от древних евреев, у которых оно сформировалось под влиянием религиозных переживаний, связанных с восприятием себя как избранного Богом народа, сложившимся в момент исхода из Египта, когда состоялось событие «заключения Завета и дарования Закона на горе Синай. Именно эти события мы и должны считать событиями рождения Израиля как народа Божия»2. Таким образом, «история
Авраама, Исаака и Иакова, да и вся предыдущая история выглядят по отношению к истории народа Божия как неотъемлемая предыстория, предисловие»1. Однако если обратиться к Ветхому завету, то именно Авраам считается тем, кто первым заключил Завет с Богом и в силу этого стал предком всего народа Израиля. Обращаясь к нему, Бог сказал «Я произведу от тебя великий народ... и благословятся в тебе все племена земные»2. Поэтому народ Израиля воспринимал себя как сообщество кровных родственников, которые получили Завет именно на основе своего происхождения от Авраама. Иными словами, как утверждает А. Сорокин, «наследниками Завета [в Ветхом завете – прим. К.А.] обозначены не отдельные личности, а <…> целый народ – потомство Авраама (через Исаака и Иакова)»3. Здесь, впрочем, следует обратить внимание на важный аспект, отмеченный немецко-американским корифеем национализмоведения Г. Коном: «Евреи стали нацией не на основании кровного родства, но посредством волевого акта и духовного решения» (Kohn, 2008: 37). В данном случае немецко-американский автор отсылает к эпизоду из Второзакония, а именно к главе 23, где указано: «Аммонитянин и Моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне во веки»4, притом что Руфь, праматерь королевского дома Давида, была моавитянкой, что, с точки зрения авторов Второзакония, выносило весь дом Давидов за рамки религиозного сообщества иудеев. Следовательно, делает заключение Г. Кон, вопрос Завета между Богом касался не исключительно кровного родства (Kohn, 2008), что, казалось бы, следует из эпизода с Авраамом, но и проявления свободной воли каждого представителя избранного народа в виде ответа на божественный призыв: «Если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и народом святым; вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. И пришёл Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря: всё, что сказал Господь, исполним. И донёс Моисей слова народа Господу»5.
Здесь необходимо обратить внимание, что именно данный завет, необходимо рассматривать как последний и решающий в рождении израильского мессианизма. Так, Г. Кон отмечает, что в Библии описываются три завета, которые заключили Бог и человечество: первый – между Богом и Ноем, второй – между Богом и Авраамом и, наконец, третий – между Богом и народом Израиля, заключенный около горы Синай (Kohn, 2008). Последний являлся фактически чем-то абсолютно новым для древних евреев. Современный немецкий исследователь Я. Ассман заявляет: «Вся теология завета является результатом опыта исхода, и периода, ему непосредственно предшествовавшего, и не относится к базовым элементам израильского монотеизма. Древнейшим пророкам не была знакома заветная модель; у них отношение между Яхве и народом выражалось, скорее, в образе брачного, но не политического завета» (Ассман, 2022: 121). По мнению Я. Ассмана, это объясняется недостаточной разработанностью языка, что заставляло древних пророков использовать те его формы, которые были понятны простому народу (Ассман, 2022). Однако последующая трансформация языка, его насыщение политико-юридической терминологией привели к существенным преобразованиям в нем, которые сам Я. Ассман называет секуляризацией теологии, суть которой сводится к тому, что «понятие завета [становится] “переносом”» (Ассман, 2022). Это означает следующее: «Соглашение заключается вполне буквально, его текст составлен, положения обнародованы и торжественно утверждены, он зачитывается и истолковывается на регулярных собраниях. Одним словом, новая религия утверждается согласно модели политических отношений» (Ассман, 2022: 121). В данном случае необходимо обратить внимание на один важный принцип заключения соглашения – пусть и формальное, но равенство сторон. В интерпретации Г. Кона, «Завет был заключен <…> между Богом и всем народом, каждым его членом в абсолютно равном смысле» (Kohn, 2008: 37). Но это означает, что он рассматривается как некий завершившийся единичный акт в мировой истории, который накладывает обязанности и предоставляет права только на тех и тем, кто его заключил, касается также их потомков, и не более. В результате обнаруживается жесткая связь между этнической и религиозной идентификацией, которая была существенно ослаблена в языческих культах и полностью ликвидирована в христианстве.
Последнее, казалось, нашло свое выражение в известном отрывке из Послания к галатам Апостола Павла: «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского; ибо все вы одно во Христе Иисусе»6. Однако более поздние комментарии данного выражения свидетельствовали, что не все так однозначно. Так, например, Блаженный Августин считал, что «различие такое (между народами, полами или в условиях жизни) уже отменяется, и отменяется единством веры. Но различие это сохраняется в общении смертных, и даже апостолы учат, что его надо учитывать на этом жизненном пути»1.
Философ Аристид Афинский, христианской апологет II века н.э., в своей «Апологии», адресованной императору Аврелиану, писал, различая этноконфессиональные группы: «Перейдем к человеческому роду, чтобы увидать, кто из людей участвует в истине (вышеуказанного богопознания) и, кто разделяет заблуждение. 2. Нам известно, царь, что в этом мире существуют четыре рода людей: варвары и эллины, иудеи и христиане», и далее: «3. Варвары ведут свое происхождение по религии от Бэла, Хроноса, Реи и прочих богов. 4. Греки – от Эллена, о котором говорят, что он произошел от Зевса. От Эллена рождены Эол и Ксуф; остальная Эллада ведет происхождение религии от Инаха и Феронея, наконец – от Даная Египетского, Кадма Сидонского и Диониса Фивского. 5. Иудеи ведут свое происхождение от Авраама и Исаака и Иакова и его 12 сыновей, которые переселились из Сирии в Египет и там от своего законодателя были названы евреями: позднее же стали называться иудеями. 6. Христиане же ведут начало своей религии от Господа Иисуса Христа»2.
Таким образом, сверхнациональный универсализм христианства был ограничен. Как указывал американский исследователь национализма Ф. Герц, ранние приверженцы данной религии воспринимали себя как «отдельную нацию, народ Божий», лояльность которой не принадлежит какому-либо отдельному государству. Напротив, «христиане чужие в своей собственной стране и рассматривают любую страну как свою родину», поскольку «их настоящий дом – на небесах» (Hertz: 1942: 103–104). Проводя мысль о существовании четырех групп в известном ему человечестве красной нитью через всю апологию, А. Афинский частично повторяет градацию человечества, предложенную Аристотелем, который выделял в своей «Политике» два сообщества, исчерпывающих собой все человечество, – эллины и варвары, причем в отношении последних философ делает вывод о том, что «варвар и раб по природе своей понятия тождественные» (Аристотель, 1983: 377), поскольку у первого по природе его отсутствует «элемент, предназначенный к властвованию». Вследствие этого он не способен к созданию завершенного государства, то есть такого, которое можно охарактеризовать как «достигшее, можно сказать, в полной мере самодовлеющего состояния и возникшее ради потребностей жизни, но существующее ради достижения благой жизни» (Аристотель, 1983: 378). А, следовательно, варвар – это человек, живущий вне государства, то есть «недоразвитое в нравственном смысле существо» (Аристотель, 1983: 378).
В контексте наших размышлений важно обратить внимание на то, что само государство, по Аристотелю, – это расширенная семья или, говоря словами философа, «колония семьи», что подтверждается следующим: «некоторые и называют членов одного и того же селения “молочными братьями”, “сыновьями”, “внуками”» (Аристотель, 1983: 378). При этом сам философ акцентирует внимание на существовании различных греческих государств, что позволяет прийти к логическому выводу о том, что лояльность грека периода Аристотеля и более раннего периода была ориентирована на то сообщество, которое он представлял, то есть на полис, а не на античный мир как таковой. Условно говоря, подобная лояльность была возможна только в условиях наличия некоей внешней угрозы. Но даже в этом случае она была ограничена. Так, например, как свидетельствует Геродот, перед Марафонской битвой афиняне отправили к спартанцам посольство с просьбой прислать войска для совместного выступления против персов. Однако спартанцы медлили, сославшись на некие религиозные предписания: «Итак, посланный стратегами из Афин, этот Фидип-пид <…> на второй день прибыл в Спарту. <…> Фидиппид исполнил данное ему поручение; лакедемоняне же решили помочь афинянам. Тотчас же они, однако, не могли этого сделать, не желая нарушить закон. Это ведь был как раз девятый день первой половины месяца, а в девятый день, говорили они, нельзя выступать в поход, если луна будет неполной»3. И позднее, уже во времена Пелопонесской войны (431–404 гг. до н.э.), стороны не гнушались получать помощь от персидской монархии, несмотря на тот факт, что она оставалась врагом. Так, в 412–411 гг. до н.э. между Спартой и Персией были заключены договоры о помощи первой против Афин в обмен на признание Спартой власти Персии над греческими городами, расположенными в Малой Азии и островах Эгейского моря. С другой стороны, периодически персы поддерживали Афины, как это произошло в 411 г. до н.э., когда флот Афин под руководством Алквиада, обладающего хорошими связями при персидском дворе, одержал ряд крупных побед над спартанскими силами4.
Тем не менее, как признают исследователи, для древних греков было характерно осознание своего этнокультурного единства, которое выражалось в отчуждении от периферийных народов, от рабов, а также от чужеземцев, которые проживали в полисе (Земцова, 2017; Фролов, 2009).
Заключение . Изложенное выше позволяет сделать следующие выводы. В основе раннехристианского мировоззрения лежало четкое разграничение этноконфессиональных групп. Причем себя представители данной религии осознавали одновременно как общность, отличную от всех прочих. Такая черта раннего христианства была унаследована им из древнего иудаизма, следы которого обнаруживаются в Ветхом завете. Однако у ранних христиан в силу особенностей учения Нового завета этнический фактор уступил место религиозным приоритетам.
Равным образом и греки дифференцировали себя как этническую общность от других народностей. Однако, в отличие от общины ранних христиан, которая была открыта для представителей различных этнических групп (особенно после деятельности апостола Павла), древние греки были четко организованы внутри своего сообщества как прикрепленные к конкретным полисам, вследствие чего национальное сознание оказывалось вторичным по отношению к этническому. Таким образом, если христианин был прежде всего членом религиозной общины, а затем уже гражданином какого-либо политического образования, то древний грек – наоборот, сначала афинянином или спартанцем, а затем уже собственно греком. Только в условиях столкновения с условным «Другим» (рабом, чужеземцем и т.д.), общегреческое национальное сознание проявляло себя.
Таким образом, можно выделить следующие императивы, лежащие в основе национального сознания ранних христиан и древних греков. Так, у первых оно базировалось на представлении о существующем завете между Богом и христианской этноконфессиональной общностью, унаследованном от древних евреев. Однако если у последних данный императив стал основой для формирования эксклюзивной этнической общности, то у ранних христиан, напротив, позволил преодолеть национальную ограниченность в пользу отрытой для новых прозелитов конфессиональной общности.
У древних греков национальное сознание было подчинено восприятию себя как члена полиса, вследствие чего оно являлось «слабым» и в случае «отлучения» древнего грека от конкретного города-государства не могло заместить собой полностью полисное сознание, следствием чего становились факты предательства – перехода на сторону противника. Вместе с тем национальное сознание было достаточно сильно для понимания древним греком своего отличия от иных народов и превосходства античной культуры над прочими.
Список литературы Проблема национального сознания в древнегреческих и раннехристианских философско-религиозных текстах
- Аристотель. Политика // Собрание сочинений: в 4 т. М., 1983. Т. 4. С. 375–644.
- Ассман Я. Политическая теология. Между Египтом и Израилем. СПб., 2022. 181 с.
- Земцова Е.Е. Становление концепции эллинства и утверждение эллинской идентичности в эпоху архаики и классики // Вестник Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. 2017. № 1 (54). С. 55–63.
- Пиков Г.Г. Еще раз о специфике взаимодействия христианства и европейской культуры // Идеи и идеалы. 2016. Т. 1, № 1 (27). С. 39–52. https://doi.org/10.17212/2075-0862-2016-1.1-39-52.
- Практическая и прикладная философия / отв. ред. А.А. Гусейнов. М. ; СПб., 2024. 326 с.
- Рад Г. Начало историописания в древнем Израиле // Библейские исследования. М., 1997. C. 485–530.
- Фролов Э.Д. К проблеме национальной идентичности в античном мире: концепция эллинства в греческой литературе классической эпохи // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2009. № 3. С. 53–59.
- Hertz F. Nationality in History and Politics. Psychology and Sociology National Sentiments and Nationalism. N. Y., 1942. 429 р. https://doi.org/10.4324/9781003281993.
- Kohn H. The Idea of Nationalism. New Jersey, 2008. 735 p.
- Smith A. The Ethnic Origins of Nations. Oxford, 1986. 312 р.
- Strategies of Distinctions. The Construction of Ethnic Communities, 300–800 / еds.: W. Pohl, H. Reimitz. Leiden ; Boston ; Köln, 1998. 348 р. https://doi.org/10.1163/9789004609518.