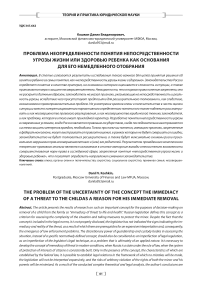Проблема неопределенности понятия непосредственности угрозы жизни или здоровью ребенка как основания для его немедленного отобрания
Автор: Кошкин Д.В.
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Теория и практика юридической науки
Статья в выпуске: 5 (80), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье излагаются результаты исследования такого важного для целей принятия решения об изъятии ребенка из семьи понятия, как «непосредственность угрозы жизни и здоровью». Законодательство России определяет понятие в качестве критерия, на основании которого оценивается сложность ситуации, а также принимаются меры к защите несовершеннолетнего. Невзирая на то, что в нормах права понятие закреплено, оно не раскрыто должным образом, законодатель не указал признаки, указывающие на непосредственность и реальность угрозы, вследствие чего присутствуют предпосылки для расширительного толкования и, как следствие, возникновения правоприменительных проблем. На усмотрение органов опеки и попечительства в части оценки ситуации вместо конкретизированного нормативного определенного понятия его также надлежит рассматривать и как несовершенство правового регулирования, и как несовершенство юридической техники законодателя, и как проблему, которая в итоге имеет прикладной характер. Разработка понятия непосредственности угрозы в современных условиях, когда Россия является правовым государством, когда последовательно выстраивается система защиты интересов граждан, необходима. Только при наличии понятия, имеющего признаки, закрепленные в федеральном законе, могут выстраиваться правоотношения, в рамках которых не будут совершаться ошибки, законодательство не будет толковаться расширительно, а также будут максимально снижены риски произвольного нарушения прав несовершеннолетнего и (или) его родителей. Результатом проведенного комплексного теоретико-правового анализа являются излагаемые в статье авторские выводы относительно возможности совершенствования норм права в исследуемой сфере, закрепления понятия «непосредственная угроза жизни и здоровью ребенка», что позволяет определить направления изменения законодательства.
Опека, органы опеки и попечительства, сиротство, социальное сиротство, приемная семья, несовершеннолетний
Короткий адрес: https://sciup.org/14132227
IDR: 14132227 | УДК: 347.642
Текст научной статьи Проблема неопределенности понятия непосредственности угрозы жизни или здоровью ребенка как основания для его немедленного отобрания
З ащита интересов ребенка в ситуации, когда ему угрожает реальная опасность, причем речь идет о здоровье и жизни несовершеннолетнего, рассматривается современным законодателем в качестве основания для немедленного изъятия его из семьи, если источник угрозы – члены семьи, в первую очередь – родители несовершеннолетнего. Произвольное изъятие не допускается.
В силу норм действующего права требуется установить, что угроза является непосредственной. Закрепив понятие непосредственности в Семейном кодексе Российской Федерации (далее – СК РФ), законодатель не раскрыл его, не определил, каким образом надлежит установить, что несовершеннолетнему грозит опасность, что допустимо толковать как несовершенство юридической техники законодателя, в результате которой в нормах права присутствует неопределенность.
Любое законодательство не должно содержать подобной неопределенности, поскольку в ином случае при толковании его по усмотрению правоприменителя неизбежны ошибки, возможны злоупотребления и прямое нарушение прав ребенка и (или) его родителей. Сохранение неопределенности в СК РФ на протяжении длительного периода времени при отсутствии конкретизации понятия со стороны высших судов допустимо рассматривать как сохранение проблемы правового регулирования, наличие которой предопределяет необходимость проведения исследований и разработки предложений по совершенствованию не только доктрины права, но и законодательства.
Цель исследования заключается в проведении комплексного анализа регламентации, теоретических воззрений и правоприменения в сфере установления опеки и попечительства над несовершеннолетними.
Для достижения этой цели необходимо последовательно решить следующие задачи:
-
• раскрыть сущность, цели немедленного ото брания ребенка из семьи, как способа защиты его интересов с позиции теории права и действующего российского законодательства;
-
• проанализировать действующее законода тельство России и судебную правоприменительную практику с позиции определения сущности непосредственной угрозы жизни и здоровью ребенка как основания для немедленного его отобрания;
-
• сформулировать на основании проведенно го исследования и предложить критерии определе-
- ния непосредственности угрозы для жизни ребенка с целью совершенствования действующего законодательства.
Обзор литературы. Вопросам защиты интересов несовершеннолетних на протяжении существования института опеки и попечительства в научной литературе уделялось и уделяется достаточно внимания.
Среди авторов, в чьихтрудахтак или иначе рассматривался вопрос об изъятии из семьи, можно отметить С.В. Бахрушина, А.И. Загоровского, А.С. Невзорова, Л.И. Петражицкого, И.А. Покровского, Г.Ф. Шер-шеневича.
Среди современных исследователей и теоретиков права следует выделить В.И. Абрамова, О.Ю. Ильину, А.М. Нечаеву, Л.М, Пчелинцеву.
Несмотря на то, что в целом вопросы немедленного изъятия ребенка из семьи были и остаются предметом изучения, специализированных исследований, в рамках которых разрабатывается понятие непосредственности угрозы, в настоящее время нет. Следовательно, с учетом значимости данной темы присутствует необходимость проведения анализа с позиции теории, правового регулирования и правоприменительной практики.
Методологическая основа исследования. При проведении исследования использовались формально-правовой, сравнительно-правовой методы, а также методы анализа и синтеза.
Результаты исследования и их обсуждение
Изъятие ребенка из семьи в теории права и с позиции российского законодательства рассматривается как крайняя мера, применение которой возможно только в интересах ребенка и только с целью обеспечения его безопасности, создания приемлемых условий для жизни и воспитания. При этом, как обоснованно подчеркивается исследователями, определение немедленного изъятия как крайней меры во многом обусловлено закреплением такого важного права ребенка, как право воспитываться в семье [1].
Законодательство нашей страны, как справедливо отмечается в научной литературе, предусматривает две процедуры изъятия, одна из которых административная – немедленное изъятие [2], которое может быть осуществлено в соответствии с СК РФ только при наличии непосредственной угрозы для здоровья и жизни несовершеннолетнего1.
Анализ положений закона позволяет утверждать, что немедленное отобрание – это процедура, которая занимает определенное время. В частности, в обязательном порядкедолжен быть принят соответствующий акт органа исполнительной власти субъекта РФ или главы муниципального образования (в зависимости от того, каким образом выстроена система органов опеки и попечительства в соответствующем субъекте РФ, имеет ли место делегирование полномочий на места). Следовательно, можно утверждать, что для немедленного отобрания изначально должна поступить соответствующая информация, потому что системный мониторинг жизни детей в семье в нашем государстве не осуществляется, а надзорные мероприятия имеют место в отношении семей, отнесенных к категории неблагополучных. Представляется также верным утверждение, согласно которому проблематика присутствует вследствие высокой латентности семейного насилия [3], как физического, так и психологического.
Следовательно, с позиции законодательства немедленное отобрание – это процедура, предполагающая, что требуется определенное время. В отсутствие акта отобрать ребенка из семьи нельзя. Не-медленность в таком ее понимании относительна и может истолковываться как совершаемая в короткий промежуток времени, но не непосредственно после поступления информации о наличии угрозы для несовершеннолетнего.
Немедленное отобрание как процедура подвергается критике. При этом, как указывают исследователи, мнения разделяются полярно – от указания на то, что немедленное изъятие не предполагает защиты интересов семьи и ребенка и проведения процедур, в рамках которых будет изменена ситуация в семье, до позиции, согласно которой данная процедура должна обеспечивать полноценную защиту ребенка. Это отличает ее от ограничения родительских прав и их лишения, потому что они предполагают длительный сбор документов и прохождение процедуры судебного рассмотрения [2]. Иными словами, сторонники второго мнения считают, что помощь детям надлежит оказывать незамедлительно, не дожидаясь ухудшения ситуации, в том числе за счет введения немедленного отобрания либо как единственной, либо как первоначальной процедуры.
Мнения категоричны, но, как представляется, каждое из них обосновано. Немедленное отобрание не предполагает тщательного изучения ситуации, в результате чего наносится определенный вред семье, которая могла бы быть сохранена, в том числе в интересах ребенка. С другой стороны, будучи административной и ускоренной, по сравнению с решением вопроса о лишении родительских прав, именно немедленное отобрание позволяет разрешить вопрос о защите ребенка. В этом случае он не остается в угрожающей для него ситуации, хотя следует отметить, что неопределенность понятия «немедленно» и необходимость не только получения информации, но и совершения иных предусмотренных законом действий в научной литературе критикуется с позиции длительности и невозможности эффективной защиты интересов ребенка [4].
Правы все исследователи, даже при наличии кардинально различных мнений, поскольку сформированные убеждения основываются на анализе правоприменительной практики.
Несмотря на понятность непосредственности угрозы для жизни и здоровья несовершеннолетнего как повода изъять его из семьи, можно согласиться с мнением исследователей относительно того, что данный термин не конкретизирован на уровне законодательства. Не определено, по каким именно признакам надлежит выделять наличие такой угрозы. Как следствие, исследователи выделяют момент усмотрения правоприменителей, характеризуя его как недостаток юридической техники законодателя при разработке норм права, касающихся немедленного отобрания ребенка [5]. Проблема отсутствия критериев для определения непосредственности угрозы не является специфичной для России. В зарубежной литературе также присутствует акцент на неопределенности нормативной терминологии [6], но при этом общим является выделение интересов ребенка как приоритетных [7].
Некоторые исследователи в ситуации неопределенности и проблемности оценки предлагают обращаться к сходному термину, закрепленному в законе, – «социально опасное положение» [8]. Сходство терминологии действительно присутствует, но понятие социально опасного положения не раскрывается напрямую, а характеризуется за счет выделения признаков безнадзорности, беспризорности, нахождения в ситуации опасности для жизни и здоровья, несоблюдения со стороны родителей или лиц, их заменяющих, обязанностей по воспитанию и содержанию, а также совершения правонарушений или антиобщественных действий несовершеннолетним2.
Подобная характеристика также не позволяет уяснить, какую именно угрозу следует принимать во внимание, в какой момент она становится непосредственной и присутствует явная опасность для здоровья и жизни. Конкретизировано понятие Пленумом Верховного Суда РФ: должны усматриваться риски наступления явных негативных последствий, в числе которых выделены такие, как риск смерти, риск вреда для психики или физического здоровья. При этом наступление указанных последствий связывается с невыполнением родителями обязанностей по уходу – отсутствием питания, воды, крова, а также оставлением без присмотра на длительное время3. Но оценка фактической составляющей высшим судом оставлена на усмотрение правоприменителей, что можно истолковать как недостаточную законодательную проработку терминологии.
В судебной правоприменительной практике вопрос о том, следует ли оценивать угрозу как непосредственную,в целом разрешается на основе наличия угрозы жизни ребенка.Например,на-личие угрозы усматривается в ситуации, когда ребенок на длительное время оставлен без воды и пищи, у него дефицит веса, на теле присутствуют раны4. Исследователи обращают внимание на то, что насилие по отношению к детям достаточно часто игнорируется правоприменителями, со стороны органов опеки и попечительства не принимаются должные меры [9].
Как непосредственная угроза рассматривается причинение телесных повреждений ребенку со стороны родителей в ситуации возбуждения уголовного дела5; нарушение графика приема лекарственных средств при наличии тяжелого заболевания, которое может повести за собой ухудшение здоровья ребен-ка6. С учетом наличия в судебной практике приговоров, когда сотрудники органов опеки и попечительства признаются виновными в халатности, можно согласиться с тем, что с их стороны применение насилия не всегда рассматривается как непосредственная угроза здоровью и жизни ребенка, что, безусловно, неверно. Это влечет за собой опасные риски вплоть до гибели ребенка вследствие того, что меры своевременно не были приняты.
В иных случаях толкование положений закона сучетом правовой позиции Пленума Верховного Суда РФ приводит к тому, что непосредственность угрозы усматривается в поведении родителя, настраивающего ребенка негативно по отношению к близким, окружающим, в провоцировании агрессии, оказании давления на ребенка7.
Приведенные примеры наглядно иллюстрируют проблему произвольного толкования и применения закона. Если в случае избиения ребенка, оставления малолетнего, особенно в возрасте до трех лет, без присмотра, без воды и пищи можно полностью согласиться как с основанием для немедленного отобрания, то оказание психологического давления и нарушение графика приема лекарственных препаратов – основания, которые требуют дополнительной проверки. Ситуация, которая внешне выглядит как угрожающая, по результатам проверки может оказаться совершенно иной.
Следует принимать во внимание и то, что все дети разные, они могут различным образом реагировать на поведение родителей. Дети, у которых есть ментальные особенности развития, могут отрицательно резко регулировать на вполне обоснованное поведение родителей. То есть в данном случае требуется проверка, а немедленное отобрание ребенка может стать причиной психологической травмы, как для несовершеннолетнего, так и для членов его семьи.
На данное обстоятельство, то есть необоснованность немедленного изъятия детей из семьи, указывается и в научной литературе со ссылкой на данные статистики о возвращении в семью ранее отобранных детей [10]. Причина, как можно предположить, заключается в неопределенности критериев оценки непосредственности угрозы для ребенка. То есть потребность в их конкретизации объективна, необходим отказ от сохранения в нормах права и позициях высших судов указания на возможность квалификации сложившейся ситуации исключительно по усмотрению правоприменителей, в том числе судов.
Заключение
Подводя итог, можно сделать вывод, что в законодательстве РФ не охарактеризована сущность угрозы для жизни и здоровья ребенка как основания его немедленного отобрания. Нет определения и тому, что надлежит понимать под непосредственностью. Представляется, что в целях совершенствования правового регулирования в данной сфере необходимо закрепить в СК РФ конкретизирующие определения понятия, в числе которых следующие.
«Непосредственность угрозы присутствует в случае выявления органами опеки и попечительства факта неисполнения родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего, в результате чего у ребенка не удовлетворены минимальные жизненные потребности в жилье, пище, воде, получении необходимого лечения, если оно требуется, как совокупно, так и в отдельности, в результате чего возникает угроза возникновения заболевания или прогрессирование имеющегося, а также присутствует риск наступления смерти в случае неоказания своевременной помощи».
«Под угрозой для физического здоровья несовершеннолетнего следует понимать создание ситуации, когда у него может возникнуть опасное для жизни заболевание или ухудшиться течение уже имеющегося заболевания».
«Под угрозой для психического здоровья несовершеннолетнего для целей немедленного ото- брания его из семьи следует понимать создание психотравмирующей ситуации, асоциальное поведение родителей или лиц, их заменяющих».
«Под угрозой для жизни следует понимать возникновение ситуации, когда в отсутствие специализированной врачебной помощи, в результате неисполнения родителями или лицами, их заменяющими, их обязанностей, может наступить смерть несовершеннолетнего».
Закрепление данных понятий, основа для которых разработана Пленумом Верховного Суда РФ, позволит снизить неопределенность терминологии и проблемность правоприменения, приведет к снижению усмотрения при решении вопроса об отобрании несовершеннолетнего вследствие наличия критериев для оценки непосредственно в законодательстве. Тем самым отчасти будет решена одна из основных проблем современного правоприменения в РФ – подмены норм права правовыми позициями высших судов.
Список литературы Проблема неопределенности понятия непосредственности угрозы жизни или здоровью ребенка как основания для его немедленного отобрания
- Мартынова С. Права детей, оставшихся без попечения родителей // Collegium Linguisticum-2021: тезисы докладов ежегодной конференции студенческого научного общества МГЛУ. 2021. С. 156-157. EDN: MXUXLP
- Кравчук Н.В. Законодательство и практика изъятия ребенка из семьи: защита семьи или защита ребенка? // Байкальские чтения. Актуальные вопросы цивилистики и международного частного права: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова, 100-летию Верховного суда Российской Федерации, 30-летию Совета судей Российской Федерации. Улан-Удэ: Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, 2022. С. 112-120. EDN: SSRMOS
- Телицына А.Ю. Анализ иностранной практики в области правовых оснований и подходов к ограничению, лишению родительских прав и отобранию ребенка у родителей при непосредственной угрозе его жизни и здоровью // Социальные науки и детство. 2023. Т. 4, № 1. С. 36-58. EDN: YYYGET
- Горбунова А.В. Проблемы защиты прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни и здоровью // Бизнес и общество. 2022. № 4 (36).
- Тимофеева Д.Е. Отобрание ребенка у родителей при непосредственной угрозе его жизни или здоровью как механизм социальной защиты детства в России // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2022. № 3-3 (66). С. 83-89. EDN: NMSRZW
- Wade H.E. Preserving the families of homeless and housing-insecure parents // George Washington Law Review, 2018, № 86, pp. 869-906.
- Cabrales C. (2024). Review of the Legal Implications of Divorce on Child Custody Arrangements [Электронный ресурс]. Available at: https://www.researchgate.net/publication/382047241_Review_of_the_Legal_Implications_of_Divorce_on_Child_Custody_Arrangements (accessed: 19.04.2024).
- Срыбных А.И. Отобрание ребенка из семьи как исключительная мера защиты прав детей // Россия в XXI веке: стратегия и тактика социально-экономических, политических и правовых реформ: материалы XV Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых. Барнаул: Типография управления делами Администрации Алтайского края, 2022. С. 139-141. EDN: IIETVY
- Кравчук Н.В. Изъять нельзя оставить: взгляд на российские реалии изъятия ребёнка из семьи через призму стандартов Европейского суда по правам человека // Международное правосудие. 2022. № 2 (42). С. 38-63. EDN: MNCKUX
- Асеева К.С., Тимошина Е.М. О совершенствовании мер защиты несовершеннолетних в случае возникновения угрозы их жизни и здоровью в семейно-бытовых отношениях // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. 2023. № 2 (66). С. 97-103.