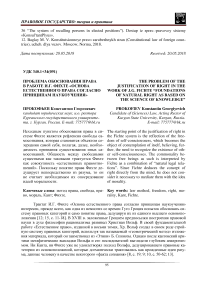Проблема обоснования права в работе И.Г. Фихте "Основа естественного права согласно принципам наукоучения"
Автор: Прокофьев Константин Георгиевич
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве
Статья в выпуске: 4 (54), 2018 года.
Бесплатный доступ
Исходным пунктом обоснования права в системе Фихте является рефлексия свободы самосознания, которая становится объектом созерцания самой себя, полагая, далее, необходимость признания существования иных самосознаний. Общность между свободными существами как таковыми трактуется Фихте как совокупность «естественных правоотношений». Поскольку понятие права Фихте дедуцирует непосредственно из разума, то он не считает необходимым их опосредование идеей моральности.
Метод права, свобода, право, мораль, кант, фихте
Короткий адрес: https://sciup.org/142233979
IDR: 142233979 | УДК: 340.1+34(091)
Текст научной статьи Проблема обоснования права в работе И.Г. Фихте "Основа естественного права согласно принципам наукоучения"
Трактат И.Г. Фихте «Основа естественного права согласно принципам наукоучения» интересен, прежде всего, как одна из немногих со времен Гуго Гроция попыток обосновать систему правовых категорий и само понятие права, дедуцируя их из единого высшего основоположения [12; 15, с. 11-18]. В XVIII в. заложенные Гроцием предпосылки построения правовой науки в духе философии рационализма развивал Христиан Вольф. В своей фундаментальной работе «Естественное право», изданной в восьми томах, Хр. Вольф создал в своем роде стройную систему правовых категорий, используя так называемый «геометрический метод» изложения материала, который он заимствовал из «Этики» Б. Спинозы. Однако после кантовский критики метафизические выкладки Вольфа и его последователей выглядели глубоким анахронизмом. Ни Канта, ни Фихте уже не удовлетворял подход Вольфа, дедуцировавшего правовые категории из основоположений, которые догматически трактовались как врожденные идеи разума, данные человеку в качестве некоторого «факта сознания» [8, с. 19; 9; 10, с. 50-62; 13].

Критикуя методологические предпосылки новоевропейского рационализма, И. Кант настаивал на том, что для достижения идеала достоверности и убедительности научной теории требуется обоснование всех без исключения научных положений, притом не только пра- вовых, но и логических [11, с. 72-74]. Осуществить это представлялось возможным лишь на основе метода трансцендентальной рефлексии, который предполагал включение в систему логического, этического и правового знания рефлексии ученого. Подобную позицию разделял и И.Г. Фихте [17, с. 15-22]. Отметим, что такого рода подход созвучен и современной русской философии права: «Системе синтетических суждений, эксплицирующих предмет философии права, должна предшествовать трактовка проблемы единства мышления и бытия с развернутым решением вопроса о том, что есть само это единство и как оно может конкретно мыслиться» [14, с. 72].
Расхождения между двумя классиками философии права начинаются с трактовки самих возможностей трансцендентальной рефлексии: Для Канта ее пределом было внутреннее содержание понятия свободы, полагание которого, тем не менее, декларировалось в качестве последнего условия дедукции достоверного знания. Для Фихте же, самоосуществление свободы субъекта и рефлексия относительно этого осуществления составляли действительное содержание первого основоположения науки. Согласно Фихте, абсолютное самосознание как источник дедукции всякого знания является практическим действием, а свобода – первичным условием осуществления этого действия. Самосознание и ее свобода являются не каким-то внешним объектом, а способом самореализации самого субъекта. Поэтому, считал Фихте, спрашивать о познании свободы бессмысленно, т.к. его идея сама является первичным условием всякого познания. Фактом сознания эту свободу делает акт рефлексии, который ученый не сводит, подобно Канту, к форме опыта. Единство действия и рефлексии, считал Фихте, и есть как раз то, что определяет достоверность и объективность первого основоположения науки: «Разуму принадлежит здесь только наблюдение за движением Я, обращение же на самого себя составляет деятельность самого Я, которое поэтому объективно по отношению к рефлексии» [17, с. 484]. Таким образом, обоснование норм права опирается у Фихте не на абстрактные «врожденные идеи разума» в духе Гроция и Вольфа и не на кантовское представление о высшем единстве самосознания как «вещи-в-себе», в действительности, представляющее собой еще большую абстракцию, чем теоретические выкладки правоведов-вольфианцев. Источником и основой права выступает объективная деятельность субъекта свободы, которую Фихте стремится интегрировать в свою теорию именно в качестве объекта.
Здесь была бы уместна аналогия с принципом дополнительности Нильса Бора, введенным в квантовую механику более чем столетие спустя, но не без влияния разработок Канта и Фихте. Как элементарная частица материи не является ни частицей, ни волной, но имеет характеристики и того, и другого, так и «элементарная частица» мышления (по Фихте, это – высшее основоположение наукоучения) имеет «двойную природу» субъекта и объекта, т.е. является «субъект-объектом». Такого рода «субъект-объект» обозначается Фихте посредством понятия Я. Подобное, совершенно новое в истории науки, решение (сделать началом научной теории не отражение объекта, а сам по себе объект, фиксируемой в неразрывной связи с рефлексией субъекта) дало возможность Фихте осуществить следующий шаг по пути обоснования права. А именно: обосновать, исходя из понятия «субъект-объекта» объективность других субъектов. И уже от этого переходить к принципам отношений, возможным между этими объективными «другими» субъектами. Эти принципы позволят развить абстрактное понятие другого субъекта до понятия личности, а возможную форму отношений между ними определить как право. Логика развития этого содержания у Фихте примерно следующая. Источником и содержанием Я является его свобода, поскольку источник его деятельности должен быть заключен в самом субъекте [16, с. 20]. Реализация этой свободы возможна лишь при наличии некоторого противоположного ей чувственного мира: «Только абсолютно самодеятельное или практическое полагается как субъективное, как принадлежность
Я, и ограничение этого практического ограничивает само Я. То, что лежит вне пределов этой сферы, то именно вследствие того, что оно лежит вне ее, полагается как не порожденное деятельностью Я и не могущее быть ею произведено; следовательно… возникает система объек- тов, т.е. мир, существующий независимо от Я, а именно от практического Я…» [16, с. 26]. Однако в этом чувственном мире, который сам по себе не может содержать свободы в силу своей полной противоположности свободной сфере Я, должны, тем не менее, содержаться объекты, также заключающие в себе свободу, а такими могут быть лишь объекты, предполагающие «других разумных существ вне себя» [16, с. 31-38].
Сразу отметим, что для Фихте сам факт прямой дедукции из принципа свободы самосознание положения о необходимой объективности других лиц, имплицитно заключает в себе требование ограничения этой изначальной свободы, а равно и свободы других: «Я полагаю себя разумным, следовательно, свободным. При этом во мне есть представление свободы. Одновременно в то же неделимом действии я полагаю другие свободные существа. Я не приписываю самому себе всей той свободы, которую я положил, потому что я должен полагать еще другие свободные существа и приписывать им часть этой свободы. Я ограничиваю самого себя в своем присвоении свободы тем, что оставляю свободу и для других. Понятие права есть, следовательно, понятие о необходимом отношении свободных существ друг к другу» [16, с. 12]. Принципом отношения личности к таким объектам, т.е. к другим личностям, а именно: отношения, осуществляемого в соответствии с идеей своей внутренней свободы и предполагающего свободу других, согласно Фихте, как раз и является принцип «естественного правоотношения» [16, с. 41-45]. Согласно принципу естественного правоотношения, «мысленно представляют всякого члена общества ограничивающим своей внутренней свободой свою внешнюю свободу так, чтобы все другие рядом с ним также могли быть во внешнем отношении свободны» [16, с. 13]. Здесь же Фихте предлагает и свое предельно общее определение права: «общностью между свободными существами как таковыми» [16, с. 13]. Последняя оговорка («как таковыми») не является случайной. Эта оговорка указывает на то, что для отношений права существенно только то, что они являются отношениями между абстрактными субъектами, взаимно признаваемое содержание которых заключено лишь в том, что они: во-первых, содержат в себе имманентную свободу и, во-вторых, являются внешними и объективными друг для друга.
Поскольку это понятие права непосредственно дедуцируется Фихте из идеи свободы самосознания, автор наукоучения не нуждается в опосредовании понятия права определениями морали, как мы находим это у Канта. Общая посылка этико-правового учения была едина для Канта и для Фихте. В целом она предполагала включение деятельности субъекта познания в объект его рефлексии, что, в свою очередь, задает необходимость дедукции основоположений права из деятельности субъекта на основании идеи свободы. Но саму эту задачу ученые решают по-разному: для автора «Критики практического права» и «Метафизики нравов» переход от свободы субъекта к нормам права опосредован высшим нравственным законом, для автора «Основы естественного права согласно принципам наукоучения» право непосредственно обосновано в идее свободы. Именно поэтому Фихте считает возможным и целесообразным отделить право от морали, а этику от юриспруденции. Сравнительный анализ аргументов Канта и Фихте продолжает оставаться актуальным для современной философии и теории права. «Обе эти науки уже изначально и без нашего содействия разделены разумом и совершенно противоположны друг другу», – подчеркивает Фихте [16, с. 53].
Важно, что свое понятие права Фихте получает, следуя принципам трансцендентального метода «Критики чистого разума» с учетом той корректировки, которую внесла в него «Основа общего наукоучения»: «Понятие права должно быть изначальным понятием чистого разума; следовательно, нужно рассмотреть его указанным способом» [16, с. 12]. Вместе с тем, как нам представляется, трансцендентальный метод познания права достигает в учении Фихте не только высшего развития, но и своего предела. Это связано с тем, что содержание поня-
тия изначальной свободы личности лишено в наукоучении Фихте своего конкретного содержания, несмотря на все многочисленные декларации ученого по этому поводу.
Фихте в своей дедукции понятия права удается показать, что все определения права имеют корень в свободе личности и являются своего рода модификациями определения этой свободы. Дело, однако, состоит в том, что благодаря этой дедукции само понятие свободы не получает действительной конкретизации. Фихте «опрокинул» понятие свободы на процесс дедукции права, но ему не удалось сделать обратный (или параллельный) шаг: ему не удалось показать содержание процесса развития права как внутреннего содержания самого понятия свободы. Последнее, поэтому, сохраняет свой абстрактный характер, хотя эта абстрактность, как мы видим, уже совсем другого рода, чем у Канта. Нужно отметить, что Фихте сам осознавал абстрактную ограниченность и недостаточность своего трансцендентального метода познания, которую он, впрочем, отчасти списывал на несовершенство изложения. Поэтому в своей научной деятельности он стремился, с одной стороны, усовершенствовать метод (на это направлены варианты Наукоучения 1805, 1805, 1807 и 1813 гг.), а с другой стороны, уточнить и конкретизировать содержание своего учения о праве и морали. Этим вопросам посвящены его поздние работы: «Система этики о принципах наукоучения», «Замкнутое торговое государство», «Основные черты современной эпохи», «Система учения о праве» и «Учение о государстве, или об отношении первоначального государства к царству разума». Однако ранняя смерть ученого не позволила ему завершить эту работу.
Научное творчество Фихте дает дополнительные аргументы современным исследователям для обоснования своих позиций в области философии права, и в первую очередь, по нашему мнению, в таких вопросах, как компрехендная концепция познания права [5; 6; 7] и синкретизм современной правовой культуры [1; 2; 3; 4, с. 129-162].
Список литературы Проблема обоснования права в работе И.Г. Фихте "Основа естественного права согласно принципам наукоучения"
- Галиев Ф.Х. О синкретизме правовой культуры / Правовое государство: теория и практика. 2013. № 4 (34). С 36-73.
- EDN: RSPIKL
- Галиев Ф.Х. Правовая культура: социально-философские проблемы / Мир политики и социологии. 2016. № 7. С. 182-190.
- EDN: XVABYF
- Галиев Ф.Х. Синкретизм современной правовой культуры: монография. Уфа: БашГУ, 2011.
- EDN: TATGGJ
- Галиев Ф.Х., Раянов Ф.М. Обществоведение в XXI веке: теоретико-правовой аспект. Уфа: Башк. энцикл., 2018.
- EDN: YNCPHV
- Захарцев С.И., Сальников В.П. Компрехендная теория познания права / Юридическая наука: история и современность. 2015. № 8. С. 11-26.
- EDN: UIPFID