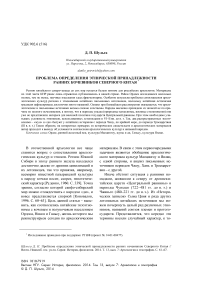Проблема определения этнической принадлежности ранних кочевников Северного Китая
Автор: Шульга Даниил Петрович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Археология Евразии
Статья в выпуске: 7 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Регион китайского северо-запада до сих пор остается белым пятном для российских археологов. Материалы по этой части КНР ранее лишь отрывочно публиковались в нашей стране. Район Ордоса исследовался несколько полнее, тем не менее, научные изыскания здесь фрагментарны. Особенно актуальна проблема сопоставления археологических культур региона с этнонимами китайских письменных источников, поскольку китайская летописная традиция зафиксировала достаточно много названий. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что археологические и письменные источники весьма сложно сочетаемы. Народы внезапно пропадали из записей не по причине их полного исчезновения, а потому, что в периоды упадка (природные катаклизмы, военные столкновения) они уже не представляли интереса для внешней политики государств Центральной равнины. При этом необходимо учитывать условность этнонимов, использованных летописцами в VI-II вв. дон. э. Так, два распространенных экзоэтнонима - «жун» и «ди» бытуют у китайских историков с периода Чжоу, по крайней мере, до периода Троецарствия (III в. н. э.) Таким образом, на конкретных примерах из исторических свидетельств и археологических материалов автор приходит к выводу об условности соотнесения археологических культур и названий народов.
Ордос, ранний железный век, культура маоцингоу, жуны иди, ганьсу, культура янлан
Короткий адрес: https://sciup.org/147219150
IDR: 147219150 | УДК: 902.6
Текст научной статьи Проблема определения этнической принадлежности ранних кочевников Северного Китая
В отечественной археологии все чаще ставится вопрос о сопоставлении археологических культур и этносов. Регион Южной Сибири в эпоху раннего железа находился достаточно далеко от древних цивилизаций и их летописцев, так что привязка, например, всемирно известной пазырыкской культуры к народу юэчжи носит, скорее, гипотетический характер [Руденко, 1960. С. 339]. Точка зрения, согласно которой скифо-сибирский мир можно отождествить с народом «ди», и вовсе представляется спорной [Коновалов, 1996. С. 60–63]. Цель данной статьи – выяснить, как соотносились китайские экзоэтнонимы с кочевым и полукочевым населением Ордоса, Нинся и Ганьсу, жизнь которого мы реконструируем сегодня по археологическим материалам. В связи с этим первоочередными задачами являются обобщение археологического материала культур Маоцингоу и Янлан, с одной стороны, и анализ письменных источников периодов Чжоу, Хань и Троецарст-вия – с другой.
Иначе обстоит ситуация с ранними номадами, жившими к северу от древнекитайских царств «Центральной равнины» в периоды Чуньцю (722–481 гг. до н. э.) и Чжаньго (480–221 гг. до н. э.). Из «Исторических записок» Сыма Цяня и ряда других летописных китайских источников мы можем почерпнуть целый ряд различных этнонимов, названий союзов племен и протогосударств. Представляется, что нередко эти термины носили случайный характер, к то-
∗ Исследование проведено при поддержке РГНФ (проект № 14-01-00477).
Шульга Д. П. Проблема определения этнической принадлежности ранних кочевников Северного Китая // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 7: Археология и этнография. С. 61–67.
ISSN 1818-7919
Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 7: Археология и этнография
му же дошли до нас в китайской огласовке. В данном случае правильнее было бы говорить об экзоэтнонимах. Например, одна из известных общностей именуется «дунху». Ряд исследователей воспринимают его как этноним. Но это слово можно перевести с китайского языка и как «восточные варвары» – тогда речь идет только о конгломерате племен, близких между собой лишь географически. Можно воспринять «дунху» как «восточные ху», где «ху» есть название некоего союза племен или народа, а «восточные» – указание на определенную ветвь единой общности. Аналогичная ситуация с «линьху» («лесные ху», «лесные варвары»). Распространенные экзоэтнонимы «жун» и «ди» бытуют у китайских летописцев, по крайней мере, до периода Троецарствия (III в. н. э.) [Чжугэ Лян, 2008. С. 142]. Разумеется, со времен первых свидетельств об этих народах население степей успело поменяться несколько раз, хотя бы в рамках образования и падения сюнну. Но китайцы продолжали использовать старые наименования. Думается, древние авторы просто не ставили перед собой «этнографических» задач. Хозяйственный, общественный, а во многом и культурный облик номадов I тыс. до н. э. был достаточно однородным [Давыдова, Миняев, 2008. С. 39–47]. Следовательно, долго жили и названия.
В рамках сопоставления и соотнесения реалий «археологическая культура – этнос» представляют интерес исследования и выводы китайских коллег об этнической принадлежности носителей культур Янлан и Маоцингоу. Во взглядах на этническую принадлежность последних исследователи из КНР относительно единодушны. Тян Гу-анцзинь писал о том, что первый этап бытования культуры Маоцингоу соотносится с наследием народа «ди», а второй, третий и четвертый тяготеют к племенам «лоуфань». В разделе «Жизнеописания сюнну» «Исторических записок» сообщается: «К северу от Цзинь живут лесные ху. К северу от Янь живут горные “жуны” и “восточные ху”. Они живут разрозненно, над ними множество вождей. Так что, даже собираясь в большую орду, надолго объединиться они не способны». «К северу от Цзинь» – это район к югу от гор Маньшань, подножия гор Тай-хан. Как раз здесь и распространялся ареал культуры Маоцингоу. От Иньшаньских гор на юге до Ордоса бытовала культура Тао-хунбала. В «Исторических записках» (раздел «Жизнеописания сановников Чжао») говорится, что на двадцатом году правления Улинвана из Чжао (306 г. до н. э.) «варвары ху были выбиты до самого Юйчжуна, правитель “лесных ху” преподнес коня». Юй-чжун расположен на Ордосском плоскогорье, стало быть, именно там и жили «лесные ху». Соответственно, в горах Маньшань жили лоуфани [У Энь, 2007. С. 318].
Сложной, малоизученной, вызывающей много вопросов остается тема перемещений носителей культуры Маоцингоу. По многим поводам в русле проблемы можно лишь строить догадки. Умершие из погребений с широтной и меридиональной ориентацией покойников отличаются по антропологическим признакам – четко выделяются тип восточноазиатских монголоидов, близкий к современному населению Северного Китая, и тип североазиатских монголоидов. Также отличаются черепа сюнну из Забайкалья и сюнну из провинции Цинхай. По мнению ряда китайских антропологов, черепа двух типов из могил в Иньнюгоу похожи на найденные в Маоцингоу (смешанные североазиатские и восточноазиатские черты, с преобладанием последних). А вот погребенные из могильника Госяньяоцзы имеют ряд особенностей и, в целом, антропологически относятся к типу североазиатских монголоидов. Из этого можно сделать вывод о том, что жившие у северного подножия гор Маньшань создатели могильника Госянь-яоцзы относились к северным монголоидам, в то время как жившие к югу от гор Мань-шань носители культур Маоцингоу и Инь-нюгоу по большей части являлись восточными монголоидами. Хэ Цзянин при раскопках на Иньнюгоу в 1997 г. обнаружил, что (при отличающихся погребальных обрядах и инвентаре) черепа и из меридиональных, и из широтных могил имеют явные восточноазиатские черты. У погребенных по оси В–З заметны и северные черты [Там же. С. 319]. Более детально вопрос не изучался.
На данный момент вопрос об этнической принадлежности носителей культуры Мао-цингоу остается далеким от разрешения. Имеются явные антропологические и обрядовые расхождения в рамках одной культуры. К сожалению, пока севернее гор
Маньшань исследован информативный, но единственный могильник – Госяньяозцы. Он дал представительный материал, однако отобразить всю картину северной части ареала культуры один памятник, естественно, не может. Изучение Госяньяозцы позволяет сделать вывод об относительной обособленности северной части ареала культуры Маоцингоу. Странно то, что этот могильник не дал пока ни предметов вооружения, ни предметов упряжи. Жертвенные лошади замечены только в одном месте. Группа же могильников к югу от Маньшань отражает связи в восточном направлении, не только с культурой Юйхуанмяо, но и с намного более удаленными на северо-восток общностями. Например, в провинции Хэйлунцзян, на юго-западе уезда Тайлай, есть могильники Чжаньдоу и Чжуаньчан. На данных памятниках найдено много изделий из бронзы, в том числе игольники, трубчатые украшения, бляшки в виде «соединенных жемчужин», украшения-колокольчики, бляхи с изображением тигра, крючки поясные, трехлопастные и трехгранные наконечники. Материал очень похож на тот, что обнаружен в погребениях культуры Маоцингоу. Хронологически памятники тоже почти синхронны (V–III вв. до н. э.). По антропологическим данным, на обоих могильниках часть погребенных представляет собой смешение восточных и северных монголоидов, а часть является восточными монголоидами в более или менее чистом виде. В то же время есть явное антропологическое сходство с людьми Маоцингоу [Там же. С. 318]. Конечно, мы не беремся утверждать, что население Мао-цингоу в полном составе мигрировало на северо-восток, но очевидно, что основная часть носителей этой культуры имела широчайшие связи с населением восточных территорий. Вероятно, к концу периода Чжаньго государства Центральной равнины все чаще стали продвигать свои границы на север, коренное население интегрировалось в общество китайских царств. Другая часть населения Маоцингоу, жившая к северу от Маньшань, оставившая могильник Госянь-яоцзы, очевидно, растворилась в обществе сюнну. Эта гипотеза представляется реалистичной, хотя пока ей не хватает археологических подтверждений.
Анализ археологических материалов позволяет констатировать, что культура Мао- цингоу тесно связана с соседней – Юйхуан-мяо. Их взаимное тяготение очень наглядно. Умершие лежат в вертикальных ямах в широтном направлении, головой на восток. Прослеживается традиция забоя жертвенных животных: лошадей, крупного рогатого скота, овец, коз, реже – свиней и собак. Исходя из явных следов скотоводства, можно говорить о номадизме большей части населения. Есть и свидетельства занятости части населения земледелием, мог иметь место полукочевой образ жизни. Особенно сильны черты оседлости в Юйхуанмяо. Присутствует как керамика с сильным включением песка, так и полностью глиняная. Есть сосуды ручной лепки и сделанные на гончарном круге. В оформлении поверхности сосудов наблюдается единство. Распространен, в частности, орнамент в виде «шнура». Найдены кольцевидные пряжки, украшения в виде колокольчиков, бляшки в виде «соединенных жемчужин», игольники и пр. В поздних погребениях Юйхуанмяо, например, на могильнике Бэйсиньбао, в погребении М1 найден бронзовый кинжал с двойными головками хищных птиц, что напрямую соотносится с кинжалами «антенного типа» из Маоцингоу. Из погребения M22 могильника Юйхуанмяо и погребения M4 могильника Ганцзыбао происходят кинжалы, эфесы которых вполне можно отнести к типу кинжалов «измененного антенного типа». Прямые аналогии мы видим в Маоцингоу в погребении М60. В погребении М55 того же могильника обнаружен кинжал с кольцевидным навершием. Идентичные им присутствовали в Ганцзыбао в захоронении М15. При раскопках возле г. Чжанцзякоу найдены кинжалы, имеющие орнамент на рукояти в виде треугольников [Там же. С. 317]. Прямые аналогии можно обнаружить на памятнике Гоулитоу в уезде Синхэ, который прилегает к провинции Хэбэй и связан с районом Чжанцзякоу. Интенсивность культурных контактов, таким образом, не подлежит сомнению.
Культуры Таохунбала и Маоцингоу географически близки друг другу, из этого проистекает и их связь. Но прослеживаются и сходства, и различия. В общих чертах категории вещей те же: пряжки, украшения в виде колокольчиков, бляшки в виде «соединенных жемчужин», игольники, украшения в виде двойных птичьих голов, сцены терзания в качестве значимого мотива в искусстве и др. Развитие металлургии железа, очевидно, тоже шло почти синхронно. Наблюдается существенное расхождение в жертвоприношениях животных, форме и устройстве могил, погребальном обряде, хозяйстве, изделиях из керамики и металлов, в искусстве. В Маоцингоу нет такого количества золота, серебра, изображений животных в мелкой пластике, как в Таохунбала.
Изучение культуры Янлан в КНР начато сравнительно недавно, и в России пока нет обобщающих публикаций по данной тематике. В работе «Археология Китая: период двух Чжоу» приводится мнение, что материалы культуры Янлан схожи с материалами могильника Фуфэнлюцзя из окрестностей Лун-шаня в провинции Шэньси [Институт археологии…, 2004]. Этот памятник традиционно связывается с цзянжунами, бывшими в эпоху Чуньцю долгое время вассалами Цзинь. Большая часть погребений цзянжунов имеет подбои, усопший лежит на спине, головой на восток. Найденные бронзовые игольники и украшения в форме колокольчика почти одинаковы с находками из памятников культуры Янлан. Погребения цзянжунов датируются более ранним периодом, чем Янлан, но их явная связь не может быть проигнорирована. В то же время нельзя забыть о возможных связях с культурой Каяо. Действительно, эта культура является куда более неоднородной по своей сути, но расположенные в бассейне р. Хуаншуй ее могильники также имеют следы обильных жертвоприношений лошадей, овец, собак и крупного рогатого скота. Среди инвентаря найдены топоры с проушинами, копья, ножи, колоколообразные украшения, изображения птиц, украшения головного убора с дерущимися волками и собаками. Все это очень близко к материалам культуры Янлан. В историографическом разделе работы «Археология Китая: период двух Чжоу» приводится точка зрения, что культура Янлан могла быть тесно связана с «Восемью государствами западных жунов» эпохи Чуньцю. Cвязи культуры Янлан, возможно, следует искать среди цюяньжунов. Изучив письменные источники по «Восьми государствам западных жунов» и примерно локализовав их, можно прийти к выводу, что царства западных «жунов» располагались в Гуюане (племена учжи) и Цинъяне (племена ицюй) [Там же. С. 542–547]. Опираясь на
«Исторические записки» и «Историю династии Хань» можно сказать, что носители культуры Янлан сильно отличались как от предков сюнну, так и от общности дунху.
Культура Янлан соседствует с расположенными в центральной и южной частях Внутренней Монголии ранее упомянутыми культурами Маоцингоу и Таохунбала. С этими общностями имеются как сходства, так и существенные отличия. Различия по большей части лежат в сфере погребального обряда и устройства могилы. Разнообразные подбои являются отличительной чертой погребений в Ганьсу и Цинхае с раннего периода. С эпохи неолита до бронзового века погребения баньшаньского типа, мачанско-го типа и культуры Хошаогоу, а также культур Цицзя и Каяо нередко оснащались подбоями. Поэтому очевидно, что погребальный обряд Янлан имел глубокую традицию в регионе. Можно говорить о преемственности и тесных связях между сменяющими друг друга культурами северо-запада. Одним из ярких погребальных отличий памятников Янлан от синхронных Маоцингоу и Таохунбала является то, что ноги усопшего на дне ямы располагаются выше головы, а сам он как бы «смещен» относительно жертвенных животных в подбой. Биметаллические кинжалы, поясная фурнитура, оформленная в зверином стиле, головные украшения лошади в форме листка или башмачка, бронзовые зеркала и изделия из кости с резьбой несут индивидуальные черты. С другой стороны, изображения птиц, в том числе сдвоенных птичьих головок, головок зверей, кольцевидные пряжки, кинжалы, чеканы, удила и псалии очень напоминают аналогичные категории инвентаря Маоцингоу и Таохунбала. Фигурки лежащих копытных широко представлены как в Таохунбала, так и в Янлан. Логично предположить наличие тесных и постоянных связей носителей культуры Янлан и культур Таохунбала и Маоцингоу. Поселений, соотносимых с культурой Янлан, пока не выявлено. Нет и материальных свидетельств земледелия из погребений. Погребальный инвентарь, как и весь обряд в целом, свидетельствует о полукочевом скотоводстве в то время. Для сложения кочевого хозяйства требовался ряд факторов, и одним из важнейших является постепенная смена климата с теплого и влажного на сухой и холод- ный примерно в середине I тыс. до н. э. [Тэн Минъю, 2010. С. 242–243].
Естественно, что в результате таких сдвигов земледелие не могло оставаться основным видом хозяйственной деятельности. Постепенно общество все больше приближалось к номадизму, минуя стадию полукочевников-полуземледельцев. Это прямо противоположно процессу, происходящему в Юйхуанмяо, где население постепенно оседало на землю [Ян Цзяньхуа, 2004. С. 124–127]. Сложение мощной земледельческой цивилизации в бассейне Хуанхэ также способствовало скотоводческой специализации населения северо-запада из-за возможности товарного обмена. Найденные в памятниках культуры Янлан биметаллические кинжалы, изображения драконов и детали повозок нередко несут следы явного влияния со стороны государств Центральной равнины. Очевидно, что торговые и политические связи носителей культуры Янлан с древнекитайскими царствами имели место и постоянно развивались.
Можно констатировать, что культура Таохунбала по ряду признаков тяготеет к западной культуре Янлан; Маоцингоу – к культуре Юйхуанмяо на востоке. Следует отметить особенность черт хозяйства Юйху-анмяо. Вместе с тем погребальные обряды в культурах Янлан и Маоцингоу являются вариациями одной традиции.
Исходя из интерпретации археологических источников, мы можем проследить, сколь обширными были связи различных кочевых общностей Южной Сибири и Северного Китая меж собой, степень влияния на них населения Центральной равнины. Разумеется, за различиями в погребальном обряде стояло и разделение на племена, этносы, протогосударства и т. д. В силу вышеперечисленных причин, соотнесение археологических культур с «этнонимами» летописей должно производиться весьма осторожно. Нам неизвестна форма и степень развития самоидентификации «северных варваров». Ввиду этого попытки рисовать карты с ареалами той или иной общности, а затем сопоставлять с археологическими культурами, чтобы в конце отождествить те или иные памятники с «дунху» или «горными жунами», на наш взгляд, являются дискуссионными. В то же время работа только в рамках археологических источников, без привлечения летописей, была бы искусственным сужением материала.
Список литературы Проблема определения этнической принадлежности ранних кочевников Северного Китая
- Давыдова А. В., Миняев С. С. Художественная бронза сюнну: Новые открытия в России. СПб.: Изд. Дом «ГАМАС», 2008. 120 с.
- Коновалов П. Б. О происхождении и ранней истории Хунну // 100 лет гуннской археологии. Номадизм: прошлое, настоящее в глобальном контексте и исторической перспективе. Гуннский феномен. Улан-Удэ: ОЛЗОН, 1996. Ч. 1. С. 58-63.
- Руденко С. И. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. 350 с.
- Институт археологии Академии общественных наук Китая. Чжунго каогусюэ, лян Чжоу цзюань [中国社会科学院考古研究所 编。中国考古学 ·两周卷。北京: 中国社会科学出版社 ] Археология Китая: период двух Чжоу. Пекин: Чжунго шэхуэй кэсюэ чубаньшэ, 2004. 563 с. (накит. яз.)
- Тэн Минъю. Гудайцихоу шицзянь юй вэньхуацзяньгуансидэцзай сыкао [縢铭予。古代气候事件与古代文化间关系的再思考 //边疆考古研究。北京:科学出版社 ] К вопросу о связях между климатическими изменениями в древности и археологическими культурами // Археологические исследования приграничья. Пекин: Кэсюэчубаньшэ, 2010. № 9. С. 238-246. (на кит. яз.)
- У Энь (Уэньюэсыту). Бэйфан цаоюань каогусюэ вэньхуа яньцзю: цинтун шидай чжи цзаоци теци шидай [乌恩岳斯图。北方 草原考古学文化研究:青铜时代至早期铁器时代。北京:科学出版社 ] Исследование археологических культур северных степей: с эпохи бронзы до раннего железного века. Пекин: Кэсюэчубаньшэ, 2007. 386 с. (накит. яз.)
- Чжугэ Лян. Чжугэ Лян биньшу [诸葛亮。诸葛亮宾书。北京:阳山出版社 ] Военный трактат Чжугэ Ляна. Пекин: Яньшань чубаньшэ, 2008. 278 с. (на кит. яз.)
- Ян Цзяньхуа. Чуньцю Чжаньго шици Чжунго бэйфан вэньхуадай дэ синчэн [杨建华。春秋战国时期中国北方文化带的形成。北京:文物出版社 ] Формирование археологических культур северного пояса Китая в периоды Чуньцю и Чжаньго. Пекин: Вэньу чубаньшэ, 2004. 219 с. (на кит. яз.)