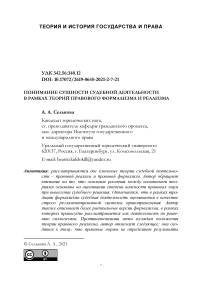Проблема определения правосубъектности роботов
Автор: Бегишев И.Р.
Журнал: Ex jure @ex-jure
Рубрика: Теория и история государства и права
Статья в выпуске: 3, 2021 года.
Бесплатный доступ
исследуется важная для правовой науки проблема определения правосубъектности роботов, рассмотрены ее перспективы. Часть исследователей считает, что наделение роботов правосубъектностью невозможно по той причине, что их поведение не является полностью самостоятельным, а волеизъявление находится под вопросом. Другие авторы предполагают, что, наоборот, присвоение роботу статуса субъекта даст возможность сделать более прозрачными правоотношения с участием робота, поскольку позволят возложить на него определенную ответственность за собственные действия. Установлено, что в сложившихся условиях невозможно наделить робота правосубъектностью, так как сквозные цифровые технологии еще не достигли необходимого уровня развития. И робот не может выступать полностью автономным субъектом. Однако с течением времени и в процессе совершенствования прорывных технологий ситуация может измениться, и наделение робота правосубъектностью станет необходимостью. Это позволит юристам четко и системно оценивать правоприменительную практику с участием роботов, чтобы в нужный момент, с учетом уровня развития и применения робототехники, принять решение об инициации вопроса о присвоении роботу статуса субъекта права.
Робот, искусственный интеллект, робототехника, правосубъектность, автономность, цифровые технологии, цифровая экономика, субъект права
Короткий адрес: https://sciup.org/147236815
IDR: 147236815 | УДК: 340.111.52:004.8 | DOI: 10.17072/2619-0648-2021-3-7-16
Текст научной статьи Проблема определения правосубъектности роботов
В се попытки исследовать природу судебной деятельности неизменно сводятся к одному вопросу: «Насколько велико значение правовых норм при обосновании судебных решений?». Этот ключевой вопрос вполне закономерно вызывает и другие, не менее значимые, – производят ли судьи после выяснения соответствующих фактов по делу правовую квалификацию и на основании этого выносят решение. Или, быть может, сведение процесса принятия судебных решений к отысканию фактов и правовых норм является упрощением более сложного явления?
Возможно, вместо использования исключительно правовых норм судьи часто полагаются на правила, нормативно не закреплённые? Любое обсуждение правосудия в современных судах, как национальных, так и международных, было бы неполным без упоминания двух фундаментальных теорий судейства – правового формализма и правового реализма. Антиномия между этими двумя теориями породила большинство поздних эмпирических исследований и теоретических изысканий.
Правовой реализм – это научное направление, возникшее в 1920-х гг. в США, которое поставило под сомнение сложившееся в доктрине мнение о том, что судьи выносят решения, применяя правовые нормы к фактам дела. В целом в рамках реализма утверждается, что судьи часто разрешают дело еще до того, как обращаются к правовым нормам. Кроме того, часто судьи могут обращаться к существующим политическим установкам. Очень важную роль играет и личность самого судьи.
Напротив, для правового формализма характерен взгляд на нормы права и методы логики как на решающий фактор при вынесении судебных решений. С позиций правового формализма закон является своеобразной «альфа и омега» – началом и концом процесса принятия судебных решений. Таким образом, формалистическая идея правосудия исключает интуитивное принятие решений, учёт политических убеждений судьи и множество других факторов. Как отмечает Р. Познер, «судьи убедили многих людей, в том числе и самих себя, в том, что они используют особые приёмы и методы, для создания внушительной доктрины правосудия, свободной от преднамеренности, влияния политики или невежества»1. Обе эти теории были превратно поняты, особенно правовой реализм, суть которого слишком упрощают.
Например, вот какова наиболее распространённая оценка этих двух доктрин в литературе: «По словам формалистов, судьи применяют действующий закон к фактам дела логическим и механическим образом. Для формалистов судебная система – это гигантская машина по производству силлогизмов, а судья действует как высококвалифицированный оператор этой машины»2. С другой стороны, правовой реализм представляет собой резкий контраст. По мнению реалистов, судья решает дело, поддаваясь чувству, а не суждению; не с помощью умозаключений, а опираясь на свою ин-туицию»3.
Здесь явственно прослеживается упрощение. Не все формалисты думают о судах как об «автоматах» по разрешению силлогизмов. Точно так же не все реалисты уверены в решающей силе интуиции судей. Правовой реализм был превратно понят почти везде за пределами его места рождения – Соединенных Штатов. Континентально-правовая доктрина, с одной стороны, рассматривает правовой реализм как практико-ориентированную, недостаточно доктринально проработанную концепцию, а с другой – противопоставляет её более теоретизированным направлениям юридической мысли.
Цель этой статьи, во-первых, показать, что на самом деле, вопреки расхожему мнению, реалисты не утверждали, что правовые нормы не имеют никакого значения. Напротив, большинство считают их важными при вынесении решения по делу; во-вторых, доказать, что вопреки общему пониманию, сложившемуся в рамках континентально-правовой традиции, правовой реализм по своей природе не был антинаучной теорией – фактически он явился своеобразным прототипом первой теории судейства.
Для более полного уяснения сути правового реализма необходимо предварительно обратиться к теории правового формализма, которая характеризует судопроизводство как деятельность, полностью подчинённую определённым правилам. Неправовые регуляторы или незначительно влияют, или вовсе не имеют никакого воздействия на результаты рассмотрения дел. Такие термины, как «правовой формализм», «механическая юриспруденция», «легализм» и «классическая юридическая мысль», на практике часто взаимозаменяемы. Некоторые учёные также используют термины «юридическая наука» или «позитивизм» при обсуждении такого феномена, как правовой фор-мализм4.
Правовой формализм понимается иногда и более широко для выражения мнения, что правосудие – это строго регламентированная деятельность, которая необязательно является чисто дедуктивной или даже логической, но, тем не менее, всегда процедурно оформлена и в некоторой степени предсказуема. При этом в доктрине также проводится разграничение между нормативным и концептуальным формализмом5. Первый акцентирован на четких правилах и строгой интерпретации; второй подчеркивает принципиальную и системную согласованность всего закона.
Иногда можно встретить и совсем упрощенную версию формализма, сводимую к взгляду на судопроизводство как на деятельность по разрешению силлогизмов, основанную на механическом анализе умозаключений6. В данном случае судопроизводство фактически приравнивается к методической и логической деятельности, основу которой в первую очередь составляет дедуктивное применение правовых доктрин, принципов и норм к фактическим обстоятельствам дела. Эта точка зрения, по крайней мере в Соединенных Штатах, никогда не была сильно развита. Тем не менее за пределами США и особенно в Европе правовой формализм был центральной теорией для понимания судебной деятельности.
Во многом источники формализма обнаруживаются во взглядах на право, как обособленную юридическую науку. С этих позиций право понимается как рациональная, замкнутая, целостная система. Это самодостаточная иерархия в том смысле, что все необходимые для её существования элементы могут быть найдены внутри системы, в пределах правовой сферы.
С тех пор как картезианские идеалы научности набрали силу в области логики, правовая аргументация также стала воплощением дедуктивного метода. В англосаксонской юридической доктрине одним из первых, кто выдвинул идею права как рациональной науки, был Блэкстоун7. Подобная точка зрения в конце концов и возобладала в XIX в. В ХХ в. распространение аналитического позитивизма в философии и многих социальных науках закрепило представление о праве как рациональной системе. Это особенно ярко проявилось в континентальной правовой традиции.
Сообразно этим взглядам судебная деятельность должна исходить из предположения, что закон является закрытой, логически выверенной системой. Соответственно, судьи не создают закон: они просто отыскивают уже существующий закон, который подлежит применению в конкретном случае.
Правосудие не имеет ничего общего с адаптацией правовых предписаний к изменяющимся обстоятельствам; оно ограничивается тем, что выявляет истинный смысл и содержание нормы права.
В этой связи уместно привести описание ключевых постулатов юридической науки, сформулированных М. Вебером. Во-первых, всякий спор о праве разрешается путём «наложения» абстрактного правового предписания к конкретной «фактической ситуации»; во-вторых, в каждом отдельном случае должна быть возможность вывести решение из абстрактных правовых норм с помощью приёмов логики; в-третьих, закон должен фактически представлять собой «беспробельную» систему юридических правил или, по крайней мере, должен рассматриваться так, как если бы это была подобная система; в-четвертых, то, что не может быть «истолковано» рационально с правовой точки зрения, также не имеет юридического значения; и, в-пятых, каждое социальное действие людей должно быть визуализировано как «применение» или «исполнение» юридических предписаний или как их «нарушение», поскольку «безупречность» правовой системы должна приводить к «правовому регулированию» всего социального поведения8.
Помимо этого, Вебер также отмечал, что понимание права именно в качестве юридической науки характерно для континентальной правовой традиции, явившейся в значительной степени продуктом систематизации9. В противоположность этому общее право развивалось скачкообразно и неоднородно. Судьи в странах общего права создают прецедент для разрешения конкретного спора о праве. При этом они редко оценивают влияние этого прецедента на всю систему права. Сформированные таким образом правовые концепты строятся в связи с конкретными событиями повседневной жизни и отличаются друг от друга лишь внешними критериями.
Если рассматривать право как науку, построенную на рациональных началах, то в полной и беспробельной правовой системе судьям не нужно прибегать к внешним регуляторам. Решение любого дела может быть выведено из самой системы: судья должен использовать только методы логики, в первую очередь дедукцию. В таком положении задача судей – отыскать и сослаться на закон. Неудивительно, что эта точка зрения породила концепцию судейства как деятельности своеобразных «оракулов» закона10.
В литературе подобный взгляд нередко именуют «механистической юриспруденцией». Так, Познер следующим образом высказывается по этому поводу: «Судьи разрешают дела, применяя ранее существовавшие правила или, в некоторых случаях, используя такие приемы, как применение права по аналогии. При этом судьи не создают нормы права, не проявляют усмотрение, кроме как в незначительных процедурных вопросах и не обращаются к каким-либо иным источникам, помимо законодательных актов, при рассмотрении дел. Таким образом, для судей закон является автономной областью знаний»11.
То есть, с позиции механистической юриспруденции, судья является своего рода профессиональным чиновником, которому представлена определенная фактическая ситуация, нуждающаяся в разрешении с помощью отыскания подходящего закона. Последний будет легко найден во всех случаях. Соответственно, функция судьи – просто найти правильное законодательное положение, связать его с фактической ситуацией и вынести решение. Вся процессуальная деятельность построена таким образом, чтобы следовать формуле силлогизма схоластической логики. Большая посылка содержится в законе, факты дела составляют меньшую посылку, и из них неизбежно следует вывод.
Переходя к анализу положений правового реализма, отметим, что он был, пожалуй, самой важной и противоречивой теорией судебной деятельности в истории юридической мысли. Действительно, немного существовало подобных концепций, которые были бы такими же спорными и трудными для интерпретации. Влияние правового реализма вышло далеко за рамки теории судебной деятельности. Можно утверждать, что даже современный юридический позитивизм во многом пережил второе рождение именно благодаря правовому реализму.
Правовой реализм – это неоднородная юридико-философская школа, и любые попытки приведения её к единому знаменателю будут более искажать, нежели способствовать пониманию её сути. Объясняя природу принятия судебных решений, реализм отталкивается от двух общих предположений. Во-первых, судьи мысленно предполагают, каким должно быть решение по делу еще до обращения к правовым нормам. Этот «черновик» решения обычно формируется на некоторых неправовых основаниях – концепции справедливости, оценке поведения участников судебного процесса, идеологии, политических предпочтениях, личности судьи и т. д. Во-вторых, судьи, как правило, всегда находят обоснование в законе для своего «черновика» решения. Конечно, иногда судья сталкивается с тем, что подходящей нормы не существует. Однако такие случаи довольно редки.
Рождение правового реализма во многом предписывается правоведу, который, вероятно, не считал себя его первооткрывателем. Оливер Уэнделл
Холмс младший писал, что «жизнь закона не сводима лишь к логике; скорее, её составляет опыт»12. Холмс, по сути, утверждал, что изменения в праве (по крайней мере, в прецедентном праве) не всегда оправдываются логикой или ранее существовавшими прецедентами; вместо этого большее значение имеют политические предпочтения или личный опыт судей. Холмс также отмечал, что «общие положения не ведут к разрешению конкретного дела»13. Однако Холмс также полагал, что конкретные правовые предписания могут влиять на то, как судьи рассматривают дела. Вероятно, будет справедливым сказать, что взгляды Холмса не были революционными. Вполне возможно, что многие его идеи были озвучены учёными-юристами предыдущего поколения. Однако именно его идеи распространились и получили некоторую известность.
Вслед за Холмсом идеи правового реализма разрабатывал Кардозо, который был не только выдающимся учёным-правоведом, но и судьей. Таким образом, его взглядам был придан дополнительный авторитет. Учёный отмечал, что в большинстве случаев существуют четкие правовые принципы, которые и предопределяют результат судебной деятельности14. Тем не менее часто однозначного юридического ответа не существует; в таких случаях, думал Кардозо, судья должен ориентироваться на социальные функции правосудия. Применительно к этому аспекту Кардозо признавал, что судья может поддаться искушению и заменить свое мнение тем, что преобладает на данный момент в общественном сознании15.
Помимо Холмса и Кардозо, определенный вклад в формирование концепции правового реализма был внесен и другими учёными. Теодор Шредер, например, был одним из первых, кто проанализировал психологию принятия судебных решений. Он отметил, что «всякое судебное решение обязательно является выражением личных побуждений судьи» и что «характер этих побуждений определяется последовательностью предыдущих переживаний судьи с их интеграцией в его эмоциональную сферу»16. Хотя наблюдения Шредера вряд ли покажутся необычными современным психологам, для своего времени это был абсолютно новый взгляд на природу судебной деятельности.
Другой правовед, Макс Радин, утверждал, что судьи не оценивают факты и правовые нормы логически или рационально. Он считал, что судьи реагируют на группы фактических ситуаций, мгновенно принимая необходимое решение, как только «подобная обобщенная ситуация отзовётся в уме судьи соответствующим воспоминанием»17. Радин далее отмечал, что ум судьи работает подобным образом во многих ситуациях и вряд ли мог бы работать иначе. В своих последующих работах учёный доказывал, что оценка фактических обстоятельств дела судьями зависит от «их подготовки, их убеждений, их сознательных или бессознательных интересов, их философских и эстетических взглядов или даже случайных обстоятельств, проявившихся в окружающей среде»18. Можно утверждать, что все наблюдения Радина очень близко подошли к тому, что современные психологи знают об интуитивном суждении и эвристической обработке информации.
Заслуживают внимания и суждения Джозефа Хатчесона, который подробно описал свой оригинальный взгляд на модель судейского поведения. Хатчесон утверждал, что судьи сначала мысленно определяют исход дела и только затем обращаются к юридическим нормам, стараясь найти обоснование своего решения. По сути, судьи сначала используют «интуицию или метод интуитивного познания» и после этого ищут нормативное обоснование19. Взгляд Хатчесона на принятие судебных решений как на интуитивный процесс заметно повлиял на всё последующее становление традиции правового реализма.
Так, идеи Хатчесона последовательно развивал Джером Франк. Как и другие реалисты, Франк сомневался в том, что судьи принимают решения на основе общих категорий или норм. Согласно Франку, предварительное определение судьёй надлежащего варианта разрешения дела предшествует исследованию правовой базы20. Примечательно, что Франк также был одним из немногих учёных, изучавших и вопрос судебной оценки фактов. По мнению Франка, судья обычно принимает только те доказательства, которые подтверждают его взгляд на разрешение дела: «Судья, стремящийся принять решение, которое будет соответствовать его чувству справедливости, часто исследует доказательства таким образом, чтобы соотнесенные с ними факты оправдывали результат, который он видит самым предпочтительным для разрешения данного дела»21.
Так что Франк всё же признавал некоторую ценность и значимость правовых норм. Хотя позже Франка критиковали за его принадлежность к психоаналитической школе (Франку даже приписывали мнение, что разрешение судьей дела, зависит от того, что «судья ел на завтрак»), его взгляды были хорошо известны и в некоторой степени эффективны для последующего развития правового реализма.
Более умеренные взгляды на судейство развивал Роско Паунд. Он, как и Холмс, отрицал превалирующее значение логики и буквального толкования правовых норм в рамках судебной деятельности. Кроме того, Паунд утверждал, что суды должны интерпретировать закон с учётом приоритетов государственной политики. Паунд вводит понятие «механистическая юриспруденция», характеризуя неправильное применение правовых норм: «Самая очевидная и самая постоянная причина неудовлетворенности законом во все времена заключается в механическом толковании правовых норм»23. Так что для Паунда, помимо юридических норм, политические соображения и доктринальные наработки играют одинаково важную роль.
Несмотря на то что взгляды Паунда глубоко повлияли на дальнейшее развитие идей правого реализма, всё же самым ярким реалистом был Карл Ллевеллин. Он также представил свою версию правового реализма, которая вполне может рассматриваться как сложившаяся теория судейства. Как и другие реалисты, Ллевеллин отрицал, что судейство – это деятельность, связанная с механическим применением норм, когда судья примитивно проецирует правовое предписание на фактические обстоятельства дела.
Для Ллевеллина положения закона – «бумажные правила» или «красивые игрушки», мало влияющие на то, чем в действительности занимается суд24. Ллевеллин, однако, утверждал, что судьи используют некоторые нормы при вынесении решения, только им в значительной степени присущ неформальный характер. К таковым могут быть отнесены политические предпочтения судьи: «пусть победит более уязвимая сторона в судебном процессе» или
«вынести решение, которое будет способствовать конкуренции на свободном рынке». В дополнение к политическим предпочтениям другие факторы также определяют результат судебной деятельности: профессиональные знания, правовое воспитание, одобрение коллег, институциональные ограничения. В отличие от Франка Ллевеллин не отрицал, что в законе есть рациональный элемент. Более того, он не соглашался с мнением Франка относительно решающей роли личности судьи в процессе. Он занял более умеренную позицию и отмечал, что судьи следуют существующим доктринальным приемам, благодаря чему «дают правильный юридический ответ по делу и выносят справедливое решение в процессе»25. Тем самым судья заслуживает одобрения в своей профессиональной среде.
Обратимся теперь к критике правового реализма, которая в основном сводилась к тому, что он не принес ничего нового в понимание сущности судебной деятельности. Например, некоторые ученые отмечали, что и предшествующими поколениями правоведов делались подобные наблюдения о судействе еще до того, как реалисты высказали свои суждения26. Но почти всем крупным научным открытиям или идеологическим движениям предшествовали наблюдения, подобные новым теориям. Точно так же верно и то, что предыдущие поколения юристов могли делать выводы, аналогичные тем, что были высказаны реалистами. Однако одних наблюдений недостаточно. Вероятно, феномен реалистов заключался не в открытии ими абсолютно новых доктринальных и философских концептов, а в их предельно точной артикуляции. Как бы то ни было, сейчас очень легко недооценивать их вклад в развитие юридической науки.
Реалисты часто изображаются как радикальные скептики, выказывающие беспредельное сомнение относительно основательности существующих теоретических моделей судейства. Действительно, такое мнение очень распространено в научной среде27. Вместе с тем реалисты прежде всего хотели повысить определенность и предсказуемость закона через раскрытие реальной природы судейства.
Они призывали к социальным реформам и хотели, чтобы закон служил инструментом общественных трансформаций. При этом они считали, что для достижения этой цели необходимо установить более тесную взаимосвязь между правом и политической системой. Вместе с тем подобные социальноправовые реформы будут тщетными, если не понять, что на самом деле дви- жет процессом принятия судебных решений. В связи с этим становится вполне очевидным, что реалисты придерживались эмпирического метода изучения права.
В этом контексте большинство учёных не только неверно понимают реалистов, но заблуждаются по поводу того, что из себя представляет научная теория. В философии науки признается, что научная теория может быть оценена по тому, насколько хорошо она выполняет две функции – объяснение и предсказание: «Теория может являться целостной, если она удовлетворяет двум требованиям. Во-первых, она должна точно описывать большой класс явлений на основе системы с минимальным числом произвольных элементов; во-вторых, она должна выдвигать определенные предположения о результатах будущих наблюдений»28. Представляется, что оба критерия в равной степени применимы и к естественным наукам, и к наукам об обществе.
Таким образом, задача правового реализма заключается в том, чтобы изучить природу судебной деятельности и на основании этого уверенно предсказывать содержание судебных решений. Как только эти цели будут достигнуты, теорию судейства можно будет назвать поистине научной теорией. Парадокс в том, что реалисты восстали против идеи права как научно построенной системы, но их повестка, по своей сути, была более научной, чем все, что были до этого.
Одним из наиболее важных достижений правового реализма было установление четкого разделения между формой деятельности по принятию судебных решений и её содержанием. Для реалистов было вполне очевидно, что судьи использовали правовые нормы для обоснования своих решений. Абсурдно считать, что судьи признают, что, вынося решение по делу, они руководствуются интуицией или своими политическими предпочтениями. Вероятно, в этом и состоит различие между фактическим принятием судебного решения и его мотивированием. Председатель Верховного суда США Чарльз Эван Хьюз однажды сказал, что «на конституционном уровне, где мы работаем, девяносто процентов любого решения составляет эмоциональный элемент. Рациональный элемент лишь помогает нам отыскать доводы в пользу наших пристрастий»29.
Конечно, всё вышесказанное не означает, что то, как судьи решают дело и как они его мотивируют, никогда не совпадает. Это представляется вполне возможным. Например, иногда судьи прямо указывают на ту «судеб- ную философию», которая легла в основу их решения. В таком случае причины принятия решения и его обоснование могут совпадать. Но то, что они могут пересекаться, не означает, что одно является адекватным показателем другого.
Между тем не все ученые-правоведы восприняли это различие. Например, встречается мнение, что стиль написания решения отражает особенности фактического мышления судей30. То есть судебные решения, сформулированные в формальном, канцеляристском стиле, отражают соответствующий тип мышления. В целом теперь, вероятно, даже убежденные представители правового формализма не будут отрицать, что формулировка судебных решений не объясняет причин их принятия.
Спустя несколько десятилетий после постепенного ослабевания «реалистических» тенденций в юридической мысли на их основе было построено множество новых исследований о праве. Кроме того, правовой реализм обеспечил фундамент для научной школы, ставшей доминирующей в сфере американской юриспруденции, – экономического анализа права. Было бы грубым преувеличением утверждать, что реалисты были правы во всем. Современные эмпирические исследования показывают, что многие выводы реалистов оказалась верными, но среди них встречались и ошибочные.
Две ключевые теории судейства имеют свои различия, связанные с оценкой статуса правовых норм. Для формалистов правосудие – это деятельность, связанная с применением правовых предписаний. В более экстремальных версиях формализма судья рассматривается как лицо, опосредующее систему силлогизмов. Большинство формалистов, однако, не поддерживают взгляда на судейство как на процессуальное воплощение дедуктивного метода, но, тем не менее, по-прежнему считают правовые нормы ключевыми инструментами мотивировки судебных решений. В противовес этому реалисты, какими бы разнообразными ни были их утверждения, в основном придерживались следующих взглядов: во-первых, правовые нормы не определяют результатов рассмотрения дел. В данном случае, иные регуляторы играют гораздо более важную роль. Поэтому судья выносит решение ещё до обращения к массиву законодательства, под влиянием других факторов. По сути, судьи действуют как адвокаты, которые сначала определяют позицию своего клиента, а затем ищут нормативный материал, её подтверждающий.
Во-вторых, судьи всегда смогут найти нормы для обоснования вынесенного решения. В этой связи представляется, что реалисты преследовали чрезвычайно конструктивные цели – повысить определенность и стабильность закона путем выявления реальных движущих сил, стоящих за судебными решениями, и сделать изучение процесса их принятия более научным – путем активного использования эмпирического метода. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что правовой реализм как самостоятельное научное направление оказало значительное и продолжительное влияние на последующее развитие всей юридической мысли.
Список литературы Проблема определения правосубъектности роботов
- Архипов В. В., Наумов В. Б. Искусственный интеллект и автономные устройства в контексте права: о разработке первого в России закона о робототехнике // Труды СПИИРАН. 2017. № 6 (55).
- Беляев М. А. Модель развития права: от эволюции к «взрыву» // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2016. № 3.
- Гаджиев Г. А., Войниканис Е. А. Может ли робот быть субъектом права (поиск правовых норм для регулирования цифровой экономики)? // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2018. № 4.
- Горохова С. С. К вопросу о необходимости института правосубъектности искусственного интеллекта на современном этапе развития правового государства // Правовое государство: теория и практика. 2020. № 3 (61).
- Гринь С. Н. Эмансипация роботов: элементы правосубъектности в конструкции искусственного интеллекта // Бизнес. Общество. Власть. 2018. № 1 (27).
- Елхов Г. А. Искусственный интеллект и проблема моделирования его самосознания // Молодой ученый. 2014. № 16.
- Ибрагимов Р., Сурагина Е. Право машин. Как привлечь робота к ответственности // Корпоративный юрист. 2017. № 11.
- Кельзен Г. Чистое учение о праве. 2-е изд. / пер. с нем. М. В. Антонова, С В. Лёзова. СПб., 2015. 542 с.
- Михалева Е. С., Шубина Е. А. Проблемы и перспективы правового регулирования робототехники // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 12 (109).
- Морхат П. М. Правосубъектность искусственного интеллекта в сфере права интеллектуальной собственности: гражданско-правовые проблемы: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2018.
- Наумов В. Б., Архипов В. В. Проект Федерального закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области робототехники» // Право и информация: вопросы теории и практики: сб. материалов VII Меж-дунар. науч.-практ. конф. Сер. «Электронное законодательство». 2017.
- Полич С. Б. Некоторые особенности правосубъектности лиц - участников гражданских и семейных отношений // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2018. Вып. 42. DOI: 10.17072/1995-4190-2018-42-664-684.
- Пономарева Е. Н. Субъекты и квазисубъекты права: теоретико-правовые проблемы разграничения: дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2019. 208 с.
- Серова О. А. Роботы как участники цифровой экономики: проблемы определения правовой природы // Гражданское право. 2018. № 3.
- Тиунова А. И. Робот как субъект правоотношения - миф или реальность? // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2020. № 2 (28).
- Ужов Ф. В. Искусственный интеллект как субъект права // Пробелы в российском законодательстве. 2017. № 3.
- Харитонова Ю. С., Савина В. С. Технология искусственного интеллекта и право: вызовы современности // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2020. Вып. 49. DOI: 10.17072/1995-4190-2020-49-524-549.
- Черкасов В. Н. Новый субъект права? // Базис. 2017. № 1.
- Ястребов О. А. Искусственный интеллект в правовом пространстве // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2018. Т. 22, № 3.
- Ястребов О. А. Правосубъектность электронного лица: теоретико-методологические подходы // Труды Института государства и права Российской академии наук. 2018. Т. 13, № 2.
- Ястребов О. А. Юридическое лицо публичного права: вопросы теории. М.: Наука, 2010.