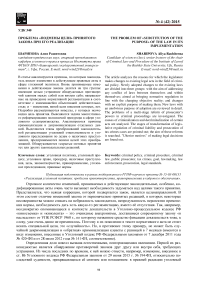Проблема "подмены цели" принятого закона при его реализации
Автор: Шарипова Алия Рашитовна
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Уголовное право и криминология. Уголовно-исполнительное право. Уголовный процесс
Статья в выпуске: 4 (42), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются причины, по которым законодатель вносит изменения в действующие правовые акты в сфере уголовной политики. Вновь принимаемые изменения в действующие законы делятся на три группы: имеющие целью устранение обнаруженных противоречий законов между собой или внутри себя; направленные на приведение нормативной регламентации в соответствие с изменившейся объективной действительностью; и - изменения, явной цели внесения которых, нет. Подробно рассматриваются новеллы, у которых неочевидна цель принятия. Выясняются задачи многоэтапного реформирования полномочий прокурора в сфере уголовного судопроизводства. Анализируются причины криминализации и декриминализации отдельных деяний. Выделяются этапы преобразований законодательной регламентации уголовной ответственности и уголовного преследования по делам о налоговых преступлениях, предпринимаются поиски целей этих преобразований. Обнаруживаются «скрытые мотивы» принятия тех или других законодательных решений.
Уголовная политика, уголовный процесс, уголовное право, прокурор, налоговые преступления, цель, законотворчество, правоприменение, уголовное преследование, правовые нормы
Короткий адрес: https://sciup.org/142232658
IDR: 142232658 | УДК: 340
Текст научной статьи Проблема "подмены цели" принятого закона при его реализации
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-03-00131 «Реализация уголовной политики: проблемы правотворчества, правоприменения и кадрового обеспечения».
Огромное количество изменений, принимаемых в действующие законодательные, особенно, кодифицированные акты очень часто вызывает необходимость задуматься над целями такого принятия. Представляется, что всякая коррекция, которой подвергается закон, является целенаправленной. В этом состоит отличие изменений закона от первоначально принятых редакций, в которых некоторые несовершенства можно списать на небрежность законодателя, непродуманность перспектив применения нормы, необходимость дать хоть какую-то регламентацию, вместо её отсутствия. Так, например, неоднократно опоминающееся в контексте доказательств в Уголовно-процессуальном кодексе РФ «киносъемка» и «кинолента» – это очевидные анахронизмы, доставшиеся современному закону «в наследство» от УПК РСФСР 1960 г., по которому названное средство фиксации доказательств тоже, к слову, уже очень давно не применялось. Поэтому в их появлении в тексте нормативного акта не стоит искать специальной цели, это «случайность». Но, в противовес этому примеру, не может быть случайной декриминализация и «обратная» криминализация клеветы с разницей в 7 месяцев (имеются в виду изменения, внесенные в Уголовный кодекс РФ Федеральными законами от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ и от 28 июля 2012 года № 141-ФЗ, соответственно).
Определенная доля новелл вызвана естественными, повторяющимися явлениями. Первой их разновидностью является обнаружение противоречий законов друг другу или внутри себя, требующих устранения. Из числа последних по времени, к ней можно отнести, например, изменение, внесенное в ст. 86 Уголовного кодекса РФ Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 194-ФЗ, относительно последствий судимости, прекращающихся её снятием или погашением: в прежней редакции уголовный закон устанавливал прекращение всех, а не только уголовно-правовых последствий, что не соответствовало ни других нормативным правовым актам, ни предмету регулирования уголовного права.
В эту группу изменений входят и многочисленные и регулярные изменения в ст. 31, 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ, связанные с необходимостью установления подсудности, подведомственности органам дознания и подследственности для вновь введенных в Уголовный кодекс РФ составов преступления.
Вторая группа законодательных новелл вызвана изменением объективной действительности, которое нужно зарегистрировать нормативно. Это разнородные общественные, правовые, технические и иные явления, на которые необходимо законодательно реагировать. К ним мы можем отнести законодательное закрепление возможности участия в судебном заседании через видеоконференцсвязь, осуществленное в УПК РФ рядом нормативных актов, криминализацию новых получивших распространение общественно опасных деяний (торговля людьми, неправомерные действия при регистрации юридических лиц) и др. Безусловно, что эти две группы изменений не исчерпывают тот огромный вал реформ, который постоянно обрушивается на уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, они составляют лишь часть, по нашему мнению, необходимую и достаточную для реализации уголовной политики.
Третий вид изменений образуют наиболее многочисленные нововведения, в тексте которых не просматривается очевидной цели их принятия. Конечно, в отношении большинства из них можно с той или иной степенью уверенности предположить задачи, ради решения которых произведены изменения. Большинство таких законов призвано, по мысли законодателя, усовершенствовать правоприменительной практику. Так, например, в последние годы, после ужесточения наказания за нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, нетрезвые водители, совершив дорожно-транспортное происшествие, стали предпринимать меры, чтобы утаить свое нахождение в пьяном виде. В ответ на это Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 528-ФЗ в статью 264 УК РФ было введено примечание 2, приравнивающее к лицам, находящимся в состоянии опьянения, лиц, не выполнивших законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Казалось бы, цель этого изменения заключается в противодействии попыткам преступников уйти от заслуженной ответственности, но, в действительности, эта новелла, как и множество ей подобных, весьма прозрачно по своему смыслу направлена на облегчение работы практиков, которым не нужно теперь доказывать нетрезвое состояние водителя, если он не согласился доказать это сам, путем проведения освидетельствования и экспертизы. Фактически новая норма «карает» преступника за нежелание быть пойманным. Есть ли принципиальная разница между тем, что сейчас закреплено в примечании к ст. 264 УК РФ, и, например, использованием в качестве доказательства вины самого факта отказа обвиняемого от проверки на полиграфе? При некоторой степени «злонамеренности» правоприменителя, содержание примечание к ст. 264 УК РФ, становится частным случаем презумпции вины, которой, помимо общей неуместности, совершенно нечего делать в особенной части уголовного права.
Полагаем, что появлению подобных странностей наша уголовная политика обязана (кроме непрофессионализма законодателя, ошибок, саботажа, ведомственного лобби, низкой юридической техники текстов законопроектов) отсутствию у многих вновь принимаемых правовых норм явно выраженной и ясной правоприменителю цели.
Ряд норм, внесенных в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, в последние годы, вызывают сомнение (если не оторопь) уже на стадии ознакомления с ними, даже без всякой поправки на возможное искажение в стадии применения. К ним можно отнести переносимые в Уголовный кодекс РФ составы правонарушений, общественная вредность которых, много лет соответствовавшая уровню административных правонарушений, вдруг якобы неимоверно возросла в глазах законодателя. Например, такое явление как неправомерное завладение государственным регистрационным знака транспортного средства (которое, в зависимости, от обстоятельств может быть квалифицировано и как административное правонарушение, предусмотренное ст. 19. 37 КОАП РФ, и, как то или другое имущественное преступление - в зависимости от поступившей вслед за кражей угрозы или предложения «выкупить» номерной знак, а в случае использования его в преступной деятельности для маскировки автомобиля как фактически совершенное деяние) с незначительными дополнениями, отличающими его от состава административного правонарушения, в 2014 году криминализовано. При этом состав административного правонарушения в КОАПе сохранен, а значит, в каждом случае неправомерного завладения номерным знаком для того, чтобы отличить правонарушение от преступления, нужно устанавливать наличие или отсутствие корыстной заинтересованности и цели совершения тяжкого или особо тяжкого преступления (а не средней тяжести, например). Вроде бы, лишняя работа 99

для следователей и дознавателей МВД РФ (вдобавок ко всему, две части вновь введенной ст. 325.1 УК РФ относятся к разным формам предварительного расследования), зато отнесение довольно распространенного и не слишком успешно раскрываемого правонарушения к числу преступлений позволяет все тому же ведомству – МВД РФ – работать с ним не в административной процедуре, а с помощью гораздо более разнообразных и эффективных уголовно-процессуальных методов и сопутствующих им оперативно-розыскных мероприятий. Думается, такой мотив был у криминализации не одного состава преступления.
Должно быть очевидно, что уголовно-правовая и уголовно-процессуальная сферы – не лучшее место для упрощений, однако вновь и вновь законодатель пытается справиться со сложными проблемами простыми решениями. Упомянутое выше преступное завладение регистрационным знаком автомобиля по своей общественной опасности явно не соответствует уголовно-правовому деянию, к тому же появление преступления, объективные признаки которого совпадают с признаками правонарушения, нежелательно и создает проблемы с решением вопроса о возбуждении уголовного дела (заставляя правоприменителя фактически провести все расследование до возбуждения уголовного дела, чтобы точно знать, имеет ли дело перспективу). И все эти трудности – ради чего?
Почему возникла такая ситуация, когда даже в сфере уголовного права, которое должно по своей сути быть консервативным, чтобы быть справедливым, не только обыватели, но и юристы не могут понять, для чего законодатель «кроит» закон? Предположим, что лидер по числу вносимых изменений – Налоговый кодекс РФ (413 законов об изменении которого было принято за время его существования против 182 законов во изменение УК РФ и 210-УПК РФ) – меняется ради увеличения собираемости налогов; с большой натяжкой, но можно предположить, что цель бесконечного реформирования УПК РФ в повышении эффективности привлечения виновных к ответственности, но ради чего можно менять Уголовный кодекс РФ? Пусть даже мы допустим, что именно в последние годы преступность меняется ежегодно, что заставляет законодателя дополнять и дополнять кодекс новыми составами преступления; но как же получилось, что за время существования УК РФ из 104 первоначальных статей его Общей части (которая может веками оставаться нетронутой) остались без изменений только 42? На наш взгляд, само число измененных норм права в сфере уголовной политики, даже без ознакомления с их содержанием, дает понимание того, что реформировалась система бесцельно; такого количества целей и задач за время существования современной уголовной политики у нее просто не могло возникнуть, тем более что никаких революционных изменений ни в обществе, ни в представлениях о хорошем и плохом, в последние годы на происходило. Основная проблема существования норм с неясной целью заключается в том, что эффект от их применения непредсказуем. Отсутствие понимания необходимости вносимых изменений дезориентирует добросовестного правоприменителя и дает почву для злоупотребления недобросовестному. Как, например, следует оценить реформирование полномочий прокурора в уголовном судопроизводстве, происходившее с 2007 по 2010 гг.? Даже задавшись целью выяснить направленность производимых законодателем преобразований, правоприменителю вряд ли удастся прийти к непротиворечивому выводу.
Так, в пояснительной записке к Федеральному закону от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ, с которого начался пересмотр полномочий прокурора, было сказано, что законопроект направлен на организационное разграничение функций надзора и организации и проведения следственных действий. Значит, в первоначальном почти тотальном изъятии полномочий прокурора на досудебных стадиях уголовного процесса, произошедшем в 2007 г., просматривалась идея отстранения его от участия в расследовании для улучшения качества надзора и повышения самостоятельности следствия. Ни в этом, ни в других случаях мы не оцениваем цели с точки зрения их «достойности», мы лишь пытаемся выявить их наличие. Могла ли такая цель, в действительности, преследоваться законодателем (при всей непоследовательности ее реализации, когда следователь, выведенный из-под опеки прокурора, впал в полную зависимость от руководителя следственного органа), если уже в 2008 г. прокурору было возвращено право отменить постановление о возбуждении уголовного дела, а затем в 2010 г. – и постановления об отказе в возбуждении уголовного дела? В отношении лишь одного вопроса решения перспективы уголовного дела прокурор до 2007 года был полномочен его возбуждать и прекращать, затем до 2008 г. не мог с ним сделать ничего, до 2010 г. мог отменять только постановление о возбуждении дела (но не прекращать уже возбужденное), а после 2010 г. и до настоящего времени также может отменять постановление об отказе в возбуждении дела (но не может возбуждать его).
Никакого «намека» на то, что принятые после 2007 г. редакции были необходимы, чтобы исправить допущенные ошибки по излишнему урезанию функций прокурора, в сопроводительных к законопроектам документах нет; причинами изменений в пояснительных записках названы «дальнейшее совершенствование» и «повышение эффективности» [2], несмотря на диаметрально противоположные векторы последовательно проведенных реформ.
Если у этих законодательных «метаний» и были цели, мы уверены, что рядовому правопримени- телю они остались непонятными. На что в такой ситуации должен ориентироваться следователь - руководит в его представлении прокурор уголовным преследованием или мешает ему делать его работу? Полагаем, что именно непониманием желания законодателя, предполагаемой им модели отношений должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование, порождена проблема, появившаяся после упомянутых реформ, когда следователь и прокурор обмениваются (порой, десятки раз) постановлениями об отказе в возбуждении уголовного дела и о его отмене, не в силах, ни тот, ни другой поставить в этом споре точку. Иногда в этой переписке и спора-то никакого нет: следователь по договоренности между руководителем следственного органа и прокурора направляет последнему постановление о прекращении уголовного дела, имитируя завершение собственной работы по нему, прокурор отменяет это постановление, выставляя собственную «палочку» в отчете о принятых мерах прокурорского реагирования, затем переписка возобновляется. Излишне говорить о том, что интересы реальных пострадавших от преступления не имеют к этим чиновничьим «играм» никакого отношения.
«Знаковым» местом проблемы отсутствия у современной уголовной политики внятных целей является законодательная регламентация уголовной ответственности и уголовного преследования по делам о налоговых преступлениях. Отношение к налоговым преступлениям - от крайнего ужесточения ответственности до фактической (не правовой) декриминализации - меняется у российского законодателя едва ли не по несколько раз за день. Недолгая история законодательной «борьбы» с налоговыми преступлениями отметилась следующими тенденциями.
Первая - изменение составов налоговых преступлений - проявилась в увеличении их числа с двух до четырех, сужении и расширении способов совершения деяния, увеличении крупного и особо крупного размеров уклонения от уплаты налогов.
Вторая тенденция заключается в постоянном изменении санкций «налоговых» статей УК РФ: наказание в них то становится суровее (Федеральный закон от 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ), то смягчается (Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ).
Третья разновидность законодательных изменений, связанных с налоговыми преступлениями, связана с судьбой специального основания освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших налоговые преступления. В первоначальной редакции кодекса такого основания не было (и надобности в нем не было, т.к. применялось общее основание, предусмотренное ст. 75 УК РФ), в 1998 г. оно появилось на короткое время (Федеральный закон от 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ), чтобы в 2003 г. снова быть исключенным (Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ). Через примерно такой же промежуток времени, в 2009 г. специальное основание освобождения от уголовной ответственности вернулось (Федеральный закон от 29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ), а в 2011 г. еще и продублировалось в общей части УК РФ (ст. 76.1, введенная Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ).
Четвертой, самой новой и самой необычной тенденцией законодательной регламентации стало регулирование уголовной ответственности за налоговые преступления средствами уголовнопроцессуального закона. Все началось с введения в УПК РФ ст. 28.1, предусмотревшей специальное основание прекращения уголовного преследования, привязавшее возможность этого прекращения к исполнению налоговой обязанности в том объеме, как она установлена решением налогового органа. Это нововведение создало неравенство между теми налогоплательщиками, подвергшимися уголовному преследованию, в отношении которых было вынесено решение о привлечении к налоговой ответственности, и теми, кто не подвергся налоговой проверке. Для решения этой проблемы, как мы полагаем, законодатель, спустя два года ввел в ст. 140 УПК РФ часть 1.1, которая установила, что единственным поводом для возбуждения уголовного дела о налоговом преступлении являются материалы, направленные налоговым органом. Устранив описанное выше рукотворно созданное несовершенство, новая норма, однако, свела на нет значение оперативной работы по выявлению налоговых преступлений, по результатам которой в прежние годы возбуждалось около 80% всех уголовных дел о налоговых преступлениях [1, с. 47], в результате чего число выявляемых налоговых преступлений сократилось. Следующим уже вполне ожидаемым законодательным шагом оказалось исключение части 1.1 из ст. 140 УПК РФ, с возвратом к общему «режиму» возбуждения уголовного дела о налоговом преступлении. Одновременно с этим из ч.1 ст. 28.1 УПК РФ, содержащей условия прекращения уголовного преследования, изъято указание на необходимость определения суммы ущерба в решении налогового органа, которое заменено на некий «расчет». «Расчет», в отличие от «решения», конечно, освобождает каждое уголовное дело от необходимости иметь в своем составе материалы налоговой проверки, но Налоговый кодекс РФ не знает ни такого понятия, ни процедуры принятия с надлежащими гарантия- 101

ми такого документа, как не предусматривают Арбитражный процессуальный кодекс РФ и Гражданский процессуальный кодекс РФ возможности обжалования его в судебном порядке, подобно решению налогового органа. Освободив уголовные дела от необходимости содержать в себе решение по итогам налоговой проверки, законодатель очередными изменениями заодно «освободил» налогоплательщика от права на рассмотрение его дела судом. Раньше налогоплательщик, не согласный с предъявленным ему обвинением (полностью, или относительно размера неуплаченных налогов), мог обжаловать в суд или арбитражный суд соответствующее решение налогового органа (и принятый по результатам рассмотрения судебный акт имел в дальнейшем преюдициальное значение для уголовного дела), а если судебный акт был не его в пользу, то обвиняемый все же сохранял возможность прекращения в его отношении уголовного преследования, если уплачивал суммы налога, пени и штрафа, как это установлено в ст. 28.1 УПК РФ. Теперь же обвиняемый в уклонении от уплаты налогов, долг которого перед бюджетом определен «расчетом» налогового органа, должен или уплатить его и быть освобожденным от ответственности, или настаивать на рассмотрении дела судом, в стремлении убедить его в своей правоте, рискуя вынесением в отношении себя обвинительного приговора с назначением наказания.
Надо полагать, что описанный «дефект» очередной законодательной конструкции не позволит ей просуществовать без изменений сколько-нибудь длительный срок, и мы вновь увидим, как еще можно «побороться» с проблемой налоговых преступлений.
Описанные примеры законодательных изменений и их правоприменительной «судьбы» демонстрируют, на наш взгляд, всю опасность существования в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве норм «с неясной целью», которая легко заменяется недобросовестными или непрофессиональными правоприменителями личными или ведомственными целями, далекими от уголовной политики.
Список литературы Проблема "подмены цели" принятого закона при его реализации
- Карякин В.В., Махов В.Н. Возбуждение уголовных дел о налоговых преступлениях. М., 2005. 208 с.
- EDN: QWFXDF
- Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов предварительного следствия», Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуального кодекс Российской Федерации». Официальный сайт Государственной Думы РФ. URL:http:www.duma.gov.ru/systems/law/ (дата обращения: 30.08.2015).