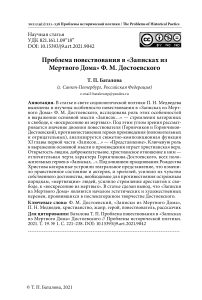Проблема повествования в "Записках из мертвого дома" Ф. М. Достоевского
Автор: Баталова Тамара Павловна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.19, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье в свете социологической поэтики П. Н. Медведева выявлены и изучены особенности повествования в «Записках из Мертвого Дома» Ф. М. Достоевского, исследована роль этих особенностей в выражении основной мысли «Записок…» - стремления каторжных к свободе, к «воскресению из мертвых». Под этим углом зрения рассматривается значение двоения повествователя (Горянчиков и Горянчиков-Достоевский), противопоставления героев произведения (положительных и отрицательных), анализируется сюжетно-композиционная функция ХI главы первой части «Записок…» - «Представление». Ключевую роль в выражении основной мысли в произведении играет христианская вера. Открытость людям, доброжелательное, христианское отношение к ним - отличительная черта характера Горянчикова-Достоевского, всех положительных героев в «Записках…». Под влиянием празднования Рождества Христова каторжные устроили театральное представление, что изменило нравственное состояние и актеров, и зрителей, усилило их чувство собственного достоинства, необходимое для противостояния острожным порядкам, «мертвящим» людей, усилило стремление арестантов к свободе, к «воскресению из мертвых». В статье сделан вывод, что «Записки из Мертвого Дома» являются началом эстетических и художественных перемен, проявившихся в послекаторжном творчестве Достоевского.
Ф. М. Достоевский, «Записки из Мертвого Дома», П. Н. Медведев, христианство, жанр, герой, повествователь, рассказчик
Короткий адрес: https://sciup.org/147227233
IDR: 147227233 | УДК: 821.161.1.09“18” | DOI: 10.15393/j9.art.2021.9042
Текст научной статьи Проблема повествования в "Записках из мертвого дома" Ф. М. Достоевского
Р азрабатывая методологические принципы изучения произведений Ф. М. Достоевского, П. Н. Медведев поставил вопрос о роли в послекаторжном творчестве писателя статьи о христианстве в искусстве, которую тот писал в Сибири, но не закончил. Об этой статье Достоевский упоминал в письме к А. Е. Врангелю от 13 апреля 1856 г.1. П. Н. Медведев так
Проблема повествования в «Записках из Мертвого Дома»… 223 оценивал значение основной идеи этой статьи в послекаторж-ном творчестве писателя: «…без нее этот период, главнейший период жизни Достоевского, как-то странно расколот: “Маленький герой”, написанный в 1849 г. в Петропавловской крепости, затем — “Дядюшкин сон” — 1859 г., в том же году “Село Степанчиково и его обитатели”, “Записки из Мертвого Дома” — 1861–1862 гг. и вдруг — потрясающие “Записки из подполья” и “Преступление и наказание”» [Медведев, т. 1: 205].
Учение о жанре — центральное в социологической поэтике П. Н. Медведева (см.: [Захаров, 2007], [Заваркина]) — дает возможность увидеть это «не вполне ожиданное “вдруг”» в жанровом своеобразии «Записок из Мертвого Дома»: «Каждый жанр <…> есть сложная система средств и способов понимающего овладения и завершения действительности» [Медведев, т. 2: 205].
О «понимании» и «овладении» действительности размышлял и Достоевский. В «Дневнике писателя» 1877 г. он указывал на то, что в старом русском романе «огромная часть русского строя жизни осталась вовсе без наблюдения и без историка » ( Д30 ; 25: 35).
Стремление писателя художественно осмыслить «огромную часть русского строя жизни» и вызвало по возвращении из каторги ту перемену, которую П. Н. Медведев назвал «не вполне ожиданным “вдруг”» [Медведев, т. 1: 205]. Первым опытом овладения не осмысленными старым русским романом сторонами действительности стали «Записки из Мертвого Дома».
В. П. Владимирцев отмечает: «Загадочная жанровая проблема “Записок” всегда озадачивала исследователей» [Владимирцев, 1997: 756]. Определение жанра «Записок…» разнообразно: «своеобразное художественное единство документального романа» [Шкловский: 123], «роман» [Мишин: 109], «книга» [Кирпотин: 380–381], «мемуарный жанр» [Гинзбург: 586], «художественные мемуары» [Чирков: 16], «цикл физиологических очерков» [Цейтлин: 290], «очерковый цикл» [Лебедев: 3–15], «документальный очерк» и «этнографическое исследование» [Этов: 107–108], «очерковая повесть» [Акелькина: 76], «записки» [Викторович: 20], «книга о народе» [Туниманов: 128], «книга <…> рассказанная народом, “братьями по несчастью”» [Владимирцев, 2008: 73], «оригинальный жанр», который образован «взаимодействием повести и художественного очерка» [Захаров, 1985: 183].
Герои «Записок…» были художественным осмыслением историй реальных арестантов (подробнее см.: [Якубович, Федоренко]). Большую роль в этом процессе играет рассказчик. В исследовательской литературе отмечается, что этот герой — одна из бесчисленных неизвестных жертв «Мертвого Дома» — необходим Достоевскому не только из опасения цензурных осложнений, но и для того, чтобы уйти от прямого автобиографизма. Горянчиков необходим автору, чтобы типизировать свою каторжную судьбу [Захаров, 1985: 174–185].
«Приступая к “Запискам”, Достоевский был во власти биографического времени, но в художественном переосмыслении своей судьбы он сначала сделал биографическое время условным, а затем символическим» [Захаров, 1997: 764]. Благодаря жанровому своеобразию, «Записки из Мертвого Дома» — художественное произведение. Образ повествователя «Записок…» неоднозначен. Покойный Александр Петрович Горянчиков не имеет ни литературного прошлого, ни будущего «воскресения из мертвых». Десятью годами каторги он измучен не только физически («чрезвычайно блѣдный и худой»2), но и душевно:
«…я бы никакъ не могъ представить себѣ: чтò страшнаго и му-чительнаго въ томъ, что я во всѣ десять лѣтъ моей каторги ни разу, ни одной минуты не буду одинъ? На работѣ всегда подъ конвоемъ, дома съ двумя-стами товарищей и ни разу, ни разу — одинъ!» (403).
Городок, в котором герой поселился, вероятно, воспринимался им как продолжение острожных порядков: такие сибирские городки «весьма достаточно снабжены исправниками, засѣдате-лями и всѣмъ остальнымъ субалтернымъ чиномъ» (395).
Издатель неоднократно подчеркивает нелюдимость Горян-чикова: «…онъ страшный нелюдимъ, ото всѣхъ прячется», «упорно сторонился отъ всѣхъ» (397), «именно поставляетъ своею главнѣйшею задачею — какъ можно подальше спрятаться отъ всего свѣта» (398). Все это делает Горянчикова обреченным. Вместе с тем, на утонченность и хрупкость его душевного мира указывает его заботливая привязанность к хозяйской внучке — десятилетней девочке, имя которой — Катя, — вероятно, напоминало ему жену. Эти сведения о герое сообщены Издателем во Введении — «предисловном рассказе» (термин Д. С. Лихачева [Лихачев]). Но для выражения идеи произведения был необходим другой рассказчик. Это — политический заключенный из дворян, пробывший на каторге 4 года. Его мысли и чувства — мысли и чувства самого Достоевского [Захаров, 1985: 178–179]. Достоевский не отделяет его от Горянчикова — героя Введения. Второго Горянчикова можно условно назвать Горянчиков-Достоевский. Читатели могут распознать героев по стилю и характеру их повествования.
Двоение рассказчика усиливает основную мысль «Записок из Мертвого Дома». Оба повествователя воспринимают каторгу как большое несчастье. В их взаимоотношениях с арестантами проявляется «глубочайшая бездна», разделяющая дворян и простонародье (644). Эта «бездна» в остроге проявляется в отчуждении Горянчикова от «этого народа»:
«…весь этотъ народъ <…> былъ народъ угрюмый, завистливый, страшно тщеславный, хвастливый, обидчивый и въ высшей степени формалистъ» (404–405).
Обычными среди арестантов были воровство и доносы:
«Большинство было развращено и страшно исподлилось. <…> …это былъ адъ, тьма кромешная. Но противъ внутреннихъ уставовъ и принятыхъ обычаевъ острога никто не смѣлъ воз-ставать; всѣ подчинялись» (405).
Горянчиков характеризует свои острожные ощущения — «тяжело», «горько», «мучительно», «страшно». Ему казалось, что кругом «все было враждебно и — страшно» (461).
Жизнь вместе с каторжными для него — «мука, чуть ли не сильнѣйшая, чѣмъ всѣ другiя. Это вынужденное общее сожительство » (415). Он болезненно признается:
«Мнѣ всегда было тяжело возвращаться со двора въ нашу казарму. <…> Не понимаю теперь, какъ я выжилъ въ ней десять лѣтъ» (402).
У героя ощущение безысходности усиливалось душевным одиночеством, которое он мог разделить только с Шариком:
«…когда <…> я возвращался съ работы <…> я спѣшилъ за казармы, со скачущимъ передо мной и визжащимъ отъ радости Шарикомъ, обхватывалъ его голову и цѣловалъ-цѣловалъ ее, и какое-то сладкое, а вмѣстѣ съ тѣмъ и мучительно-горькое чувство щемило мнѣ сердце» (487–488).
Отличительная черта характера Горянчикова-Достоевско-го — добрая открытость людям, стремление понять их и простить. Эта способность характеризует героя, с одной стороны, как человека творческого, с другой — как христианина:
«Встрѣчаясь съ ними (каторжными. — Т. Б. ) <…> я любилъ всматриваться въ ихъ угрюмыя, клейменыя лица и угадывать, о чемъ они думаютъ» (401).
Это желание понять своих новых товарищей помогло Го-рянчикову-Достоевскому, преодолевая тяжелые впечатления, увидеть и светлые лица:
«Между угрюмыми и ненавистливыми лицами остальныхъ ка-торжныхъ, я не могъ не замѣтить тоже нѣсколько добрыхъ и веселыхъ. “Вездѣ есть люди дурные, а между дурными и хорошiе, — спѣшилъ я подумать себѣ въ утѣшенiе: — “кто знаетъ? Эти люди, можетъ быть, вовсе не до такой степени хуже тѣхъ, остальныхъ , которые остались тамъ, за острогомъ”. Я ду-малъ это и самъ качалъ головою на свою мысль, а между тѣмъ, — Боже мой! — еслибъ я только зналъ тогда, до какой степени и эта мысль была правдой!» (461–462).
Горянчиков-Достоевский преодолел переживаемую безвыходность:
«Всѣ недоразумѣнiя, которыя еще остались во мнѣ, я затаилъ внутри себя, какъ только могъ глуше» (488).
Такая установка стала основой взаимоотношений героя с арестантами:
«…большая часть изъ нихъ наконецъ меня полюбила и признала за “хорошаго” человѣка» (421).
Таким образом, позиция Горянчикова-Достоевского во взаимоотношениях с арестантами «рифмуется» (термин И. М. Мейера [Мейер: 600]) с объяснениями Акима Акимовича о том, что каторжные не любят арестантов из дворян, особенно политических:
«— Да-съ, дворянъ они не любятъ, замѣтилъ онъ, — особенно политическихъ, съѣсть рады; немудрено-съ» (423).
Острожные наблюдения и рассказы арестантов показали Горянчикову-Достоевскому, что преступления нередко совершались в критических ситуациях, под влиянием конфликта с общественной средой. Чаще всего преступление являлось грубым, противозаконным, но — протестом против подавления человеческого достоинства. Преступление переживалось каторжными скрытно, но как трагедия: такими преступниками прежде всего оказывались люди незаурядные, мужественные, внутренне свободные, независимые от внешней среды, т. е. — личностями (по С. А. Аскольдову [Аскольдов: 2]). Горянчиков-Достоевский размышляет о таких преступниках:
«…этотъ народъ <…> можетъ быть и есть самый даровитый, самый сильный народъ изъ всего народа нашего» (687).
Повествователь c болью и возмущением пишет о системе наказаний, узаконенной в России. Он с горечью заявляет, что «право тѣлеснаго наказанiя, данное одному надъ другимъ, есть одна изъ язвъ общества, есть одно изъ самыхъ сильныхъ средствъ для уничтоженiя въ немъ всякаго зародыша, всякой попытки гражданственности и полное основанiе къ непремѣн-ному и неотразимому его разложенiю» (588). Повествователь отрицательно высказывается о «келейной системе» «воспитания» преступников:
«Но я твердо увѣренъ, что знаменитая келейная система до-стигаетъ только ложной, обманчивой, наружной цѣли. Она высасываетъ жизненный сокъ изъ человѣка, энервируетъ его душу, ослабляетъ ее, пугаетъ ее и потомъ нравственно изсох-шую мумiю, полусумасшедшаго представляетъ какъ образецъ исправленiя и раскаянiя» (408).
И в завершение этой темы — размышления Горянчикова-До-стоевского накануне последнего дня в остроге:
«И сколько въ этихъ стѣнахъ погребено напрасно молодости, сколько великихъ силъ погибло здѣсь даромъ! <…> …погибли даромъ могучiя силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноватъ? То-то, кто виноватъ?» (687).
Сама жизнь опровергает «келейную систему»: никакими клеймами, никакими кандалами, никакими палками не заставишь такого преступника забыть, что он — человек. Под «привычкой» к клеймам, кандалам, острожной грязи скрывается моральное преодоление «омертвления» каторжными порядками. Утвердить свое человеческое достоинство арестанты пытались доступными им способами. На каторжной работе они требовали «урока», превращая эту работу в более осмысленную. В противоположность работе подневольной занимались своим ремеслом. Месяцами, «не разгибая шеи», ремесличали, зарабатывая деньги, чтобы хоть один вечер, истратив их по своей воле, — купив обновку, поиграв в карты или напившись, — почувствовать себя свободными людьми. Укрепить свое человеческое достоинство, удовлетворить потребность в остроумии, юморе арестанты старались и в импровизированных, часто грубых, но — сценах, в «ругани из удовольствия» (419). (Получив в госпитале возможность писать, Достоевский записывал этот острожный «фольклор» в «свою тетрадь», в «Сибирскую тетрадь»).
Беспредельно униженный наказаниями, угнетенный чрезмерной теснотой вынужденного сожительства, каторжный может получить истинную духовную свободу только в обращении к Богу. Христианская вера укрепляет и силы противостояния бесчеловечным каторжным унижениям.
Горянчиков-Достоевский замечает, что с годами, проведенными на каторге, у арестантов укрепляется вера. Он вспоминает:
«Я видѣлъ разъ, какъ прощался съ товарищами одинъ арестантъ, пробывшiй въ каторгѣ двадцать лѣтъ… <…> …онъ вошелъ въ острогъ въ первый разъ, молодой, беззаботный, не думавшiй ни о своемъ преступленiи, ни о своемъ наказанiи. Онъ выходилъ сѣдымъ старикомъ, съ лицомъ угрюмымъ и грустнымъ. Молча обошелъ онъ всѣ наши шесть казармъ. Входя въ каждую казарму, онъ молился на образа и потомъ низко, въ поясъ, откланивался товарищамъ, прося не поминать его лихомъ» (401).
Вера в Бога, обусловливающая совестливость человека, его доброе отношение к людям — одна из основных черт, отличающих симпатичных, милых Горянчикову-Достоевскому героев от ужасных злодеев, с их эгоцентризмом, ненавистью и презрением к людям. Повествователь с ужасом пишет о Газине:
«Мнѣ всегда казалось, что ничего не могло быть свирѣпѣе, чудовищнѣе его. <…> Разсказывали <…> что онъ любилъ прежде рѣзать маленькихъ дѣтей, единственно изъ удовольствiя…» (439).
В первый день пребывания в остроге Горянчикова-Достоев-ского и его товарища пьяный Газин во время обеда, в кухне, едва не раздробил им головы (441).
О другом злодее — Орлове — повествователь пишет:
«…злодѣй, какихъ мало, рѣзавшiй хладнокровно стариковъ и дѣтей, — человѣкъ со страшной силой воли… <…> Это была наяву полная побѣда надъ плотью. <…> Когда же <Орлов> по-нялъ, что я добираюсь до его совѣсти и <…> хоть какого-нибудь раскаянiя, то взглянулъ на меня до того презрительно и высокомѣрно, какъ будто я вдругъ сталъ въ его глазахъ какимъ-то маленькимъ, глупенькимъ мальчиком, съ которымъ нельзя и разсуждать какъ съ большими» (447–449).
Противоположность Орлову — арестант А-в:
«Это былъ самый отвратительный примѣръ, до чего можетъ опуститься и исподлиться человѣкъ и до какой степени можетъ убить въ себѣ всякое нравственное чувство, безъ труда и безъ раскаянiя» (468).
До острога, в Петербурге, А-в, «чтобъ добыть денегъ, рѣшился на одинъ подлый (оплаченный. — Т. Б .) доносъ», в результате которого погибли 10 человек:
«…рѣшился продать кровь десяти человѣкъ, для немедленнаго удовлетворенiя своей неутолимой жажды къ самымъ грубымъ и развратнымъ наслажденiямъ» (469).
Повествователь заключает:
«…лучше пожаръ, лучше моръ и голодъ, чѣмъ такой человѣкъ въ обществѣ!» (470).
Художественные очерки и рассказы показывают, что человека делает человеком не подчинение плоти, и даже не полная победа воли над плотью, а вера, любовь к людям. Горянчиков-Достоевский вспоминает о горце-мусульманине Нурре:
«Въ каторгѣ его (Нурру. — Т. Б .) всѣ любили. Онъ былъ всегда веселъ, привѣтливъ ко всѣмъ, работалъ безропотно, спокоенъ и ясенъ, хотя часто съ негодованiемъ смотрѣлъ на гадость и грязь арестантской жизни и возмущался до ярости всякимъ воров-ствомъ, мошенничествомъ, пьянствомъ <…> но ссоръ не затѣ-валъ… <…> Былъ онъ чрезвычайно богомоленъ. <…> …въ посты передъ магометанскими праздниками постился какъ фа-натикъ и цѣлыя ночи выстаивалъ на молитвѣ» (452).
Самое доброе впечатление на Горянчикова-Достоевского произвел Алей:
«Улыбка его была такъ довѣрчива, такъ дѣтски простодушна; большiе черные глаза были такъ мягки, такъ ласковы, что я всегда чувствовалъ особое удовольствiе, даже облегченiе въ тоскѣ и въ грусти, глядя на него. <…> …его всѣ любили и всѣ ласкали» (453–454).
Горянчиков-Достоевский научил Алея русской грамоте, познакомил c заповедями Нагорной проповеди. При прощании с Горянчиковым-Достоевским Алей говорил ему:
«…ты меня человѣкомъ сдѣлалъ, Богъ заплатитъ тебѣ, а я тебя никогда не забуду…» (457).
Рассказывая о положительных героях, Горянчиков-Досто-евский подчеркивает: их «всѣ любили». Вместе с тем, в «Записках из Мертвого Дома» выделяется и еще более значимое качество положительных героев — стремление к общему благу.
К таким героям относится Баклушин, арестант особого — пожизненного — отделения, где без веры невозможно было выжить. Баклушин — инициатор, активный организатор и актер острожного «театра»:
«Я не знаю характера милѣе Баклушина. <…> …всѣ у насъ его любили. <…> Его знали даже въ городѣ, какъ забавнѣйшаго человѣка въ мiрѣ и никогда не теряющаго своей веселости. <…> Онъ былъ полонъ огня и жизни» (516).
Другой веселый и забавный человек, разрушающий беспросветность всеобщей мрачности и угрюмости, — Варламов — «изъ особаго отдѣленiя, безконечно добродушный и веселый парень, неглупый, безобидно-насм ѣ шливый и необыкновенно простоватый съ виду» (534).
Что, кроме веры, могло дать этим людям силы не только самим выжить в пожизненной каторге, оставаясь личностями, но своей веселостью помогать товарищам-арестантам оставаться людьми?! Наиболее уважаемым в остроге был Дедушка, которому все арестанты доверяли на хранение свои деньги. Горянчиков-Достоевский вспоминает:
«…что-то до того спокойное и тихое было въ его взглядѣ… <…> …рѣдко встрѣчалъ такое доброе, благодушное существо въ моей жизни» (430).
Он был старообрядцем. С другими фанатиками решился «стоять за вѣру», сжег строящуюся единоверческую церковь. В остроге он целые ночи молился на печи за всех «православ-ныхъ христiанъ» (430).
Общим для положительных героев является вера, важным проявлением которой в обстановке острога было доброжелательное отношение к людям, деятельность на общее благо.
Этот вывод «рифмуется» с размышлениями Горянчикова о том, что никто не мог восстать против острожных порядков. Это утверждение уточняют рассказы о положительных героях: восстать — нельзя, но с верой духовно противостоять им — можно.
В «Записках из Мертвого Дома» подчеркивается значимость искренности веры каторжан, что проявилось в праздновании Рождества Христова. Отмечается контраст мирского, плотского и духовного начал. Арестанты тщательно готовились встретить этот великий праздник, в большом волнении ждали его: копили деньги, приводили в порядок одежду. В самый праздничный день они торжественно встречали священника, благоговейно прикладывались к кресту, торжественно, с подношениями, священника провожали. После приема богатых подаяний горожан, официальных поздравлений начальства был объявлен сытный обед как наивысший момент праздничного дня. После отбытия начальства начались пьянство, ссоры, майданы. Арестанты вновь окунулись в каторжную действительность, привычные поиски ощущений хотя бы мнимой, но свободы, усиленные Рождественским праздником. «Праздничное веселье» нередко сменялось горькими рыданиями. Горянчиков-Достоевский заключает:
«Весь этотъ бѣдный народъ хотѣлъ повеселиться, провесть весело великiй праздникъ — и, Господи! какой тяжелый и грустный былъ этотъ день чуть не для каждаго. Каждый проводилъ его какъ-будто обманувшись въ какой-то надеждѣ. <…> Арестанты тяжело засыпаютъ на нарахъ. Во снѣ они говорятъ и бредятъ еще больше, чѣмъ въ другiя ночи» (531, 537).
Но возвышающая человека духовность, разбуженная великим праздником, оживила дар творчества и его восприятия — дар сотворчества. Эти дарования проявились на организованных в Рождественские дни талантливыми арестантами театральных представлениях.
Горянчиков-Достоевский вспоминает о каторжных во время представлений:
«На всѣхъ лицахъ выражалось самое наивное ожиданiе. <…> Чтó за странный отблескъ дѣтской радости, милаго, чистаго удовольствiя сiялъ на этихъ изборожденныхъ, клейменыхъ лбахъ и щекахъ, въ этихъ взглядахъ людей, доселѣ мрачныхъ и угрюмыхъ, въ этихъ глазахъ, сверкавшихъ иногда страшнымъ огнемъ!» (546).
На это время стали ненужными вино, ссоры, карты. Го-рянчиков-Достоевский пишет о своих впечатлениях после спектакля:
«Наши всѣ расходятся веселые, довольные, хвалятъ актеровъ, благодарятъ унтеръ-офицера. Ссоръ не слышно. Всѣ какъ-то непривычно довольны, даже какъ будто счастливы, и засыпаютъ не повсегдашнему, а почти съ спокойнымъ духомъ, — а съ чего бы кажется? А между-тѣмъ это не мечта моего воображенiя.
Это правда, истина. Только немного позволили этимъ бѣднымъ людямъ пожить по-своему, повеселиться по-людски, прожить хоть часъ не по-острожному — и человѣкъ нравственно мѣняется, хотя бы то было на нѣсколько только минутъ…» (555).
Повествователь подчеркивает духовно-творческое соучастие каторжан. «Представление» воспринималось ими как их общий праздник: и актеры, и организаторы «представления» — сами арестанты. Зрители смотрели спектакль, вплотную прижавшись друг к другу, забыв о ссорах, неприязни, сплетнях и воровстве. Стоявшие на приставленных к стене поленьях опирались на плечи стоявших впереди товарищей. Это духовно-творческое соучастие показывает силу искусства, способность его внести в общество христианские отношения.
Рассказ о «представлении» и произведенных им впечатлениях повествователь оканчивает молитвой «дедушки» и надеждой на «воскресение из мертвых»:
«Но вотъ уже глубокая ночь <…> а дѣдушка на печи молится за всѣхъ “православныхъ христiанъ” и слышно его мѣрное, тихое, протяжное: “Господи Iисусе Христе, помилуй насъ!‥” <…> “Не навсегда же я здѣсь, а только вѣдь на нѣсколько лѣтъ!” — думаю я, и склоняю опять голову на подушку» (555–557).
В. Н. Захаров отмечает, что «логика композиции “Записок из Мертвого Дома” — crescendo идеи. Таков подбор фактов и рассуждений о них в произведении Достоевского» [Захаров, 1985: 183]. Во второй части «Записок…» принцип противопоставления «мертвящих» порядков и стремления к «воскресению из мертвых» проявляется своеобразно. Первые главы — «Госпиталь», «Продолжение», «Продолжение», «Акулькин муж» — рассказы о страданиях от наказаний, о жестоком преступлении «Акулькиного мужа», о смертях, о расковывании мертвого — резко снижают пафос последней главы первой части — «Представление». Этого снижения пафоса требует логика сюжета «Записок из Мертвого Дома». Но вместе с тем, как бы исподволь, из-под мрачных фактов выступают и светлые надежды. Эта тенденция усиливается до «славной минуты» — «Выхода из каторги».
В начале второй части Горянчиков-Достоевский вспоминает, что в госпитале каторжным выдавалась другая одежда, в арестантских палатах были не нары, а кровати, с бельем. Здесь же говорится о человечности докторов. Они сочувствовали арестантам и принимали, если было много свободных мест, здоровых, но очень утомленных бедняг. Повествователь сообщает:
«Я уже и прежде слышалъ, что арестанты не нахвалятся своими лекарями. “Отцовъ не надо!” — отвѣчали они мнѣ на мои рас-просы…» (558).
Стремление арестантов к свободе выражается в их тяготении к природе, особенно летом, когда в неволе усиливалась тоска (главы «Летняя пора», «Каторжные животные»).
Летом арестанты работали далеко от крепости. Сарай, в котором работал Горянчиков-Достоевский, стоял на высоком крутом берегу Иртыша. Герой вспоминает о летней поре:
«Все для меня было тутъ дорого и мило: и яркое горячее солнце на бездонномъ синемъ небѣ, и далекая пѣсня киргиза, приносившаяся съ киргизскаго берега. Всматриваешься долго и разглядишь наконецъ какую-нибудь бѣдную, обкуренную юрту какого-нибудь байгуша… <…> Все это бѣдно и дико, но свободно» (618).
Надежды арестантов на «ревизора» полностью не оправдались, но ненавистный «плац-майор» все-таки должен был подать в отставку. «Претензия» не принесла желаемых результатов, но в организации ее проявилось чувство собственного достоинства всех участников. Это событие продолжает ряд рифмующихся ситуаций об острожных порядках и противостоянии им. Отношение к Горянчикову-Достоевскому здесь неоднозначно: отчуждение к нему как к бывшему барину, но не вражда как к человеку. Об этом говорит и прощание Го-рянчикова-Достоевского с острожными:
«Много мозолистыхъ, сильныхъ рукъ протянулось ко мнѣ привѣтливо. Иные жали ихъ совсѣмъ по-товарищески…» (687).
Этот эпизод обобщает и завершает сюжетную линию Горянчикова-Достоевского и арестантов. Сцена прощания
Горянчикова-Достоевского с арестантами, выражающая основную мысль произведения, выполняет функцию эпилога «Записок из Мертвого дома». Выход из каторги и сцена расковывания Горянчикова-Достоевского, в противоположность сцене расковывания мертвого в госпитале, символизируют «воскресение из мертвых». В великих романах Достоевского христианская идея выражается непосредственно через образы и события. То же происходит и в «Записках из Мертвого дома», которые и были тем «не вполне ожиданным “вдруг”», о котором писал П. Н. Медведев.
Примечания
-
1 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1985. Т. 28 1 . С. 229. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с использованием сокращения Д30 и указанием тома (полутома — нижним индексом) и страницы в круглых скобках.
-
2 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: канонические тексты. Петрозаводск: ПетрГУ, 1997. Т. 3. С. 396. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием страницы в круглых скобках.
Canonical Texts ]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 1997, vol. 3, pp. 754–763. (In Russ.)
Список литературы Проблема повествования в "Записках из мертвого дома" Ф. М. Достоевского
- Акелькина Е. А. Записки из Мертвого дома» // Достоевский: Сочинения, письма, документы: словарь-справочник / сост. и науч. ред. Г. К. Щен-ников, Б. Н. Тихомиров. СПб.: Пушкинский Дом, 2008. С. 74-77.
- Аскольдов С. А. Религиозно-этическое значение Достоевского // Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы / сост. В. С. Долинин. Пг., 1922. Сб. 1. С. 1-32.
- Викторович В. А. Жанр записок у Толстого и Достоевского // Лев Толстой и русская литература: межвуз. сб. Горький: ГГУ 1981. С. 18-25.
- Владимирцев В. Книга века // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: канонические тексты. Петрозаводск: ПетрГУ, 1997. Т. 3. С. 754-763.
- Владимирцев В. П. Записки из Мертвого дома // Достоевский: Сочинения, письма, документы: словарь-справочник / сост. и науч. ред. Г. К. Щенников, Б. Н. Тихомиров. СПб.: Пушкинский Дом, 2008. С. 70-74.
- Гинзбург Л. Я. «Былое и думы» // История русского романа: в 2 т. М.; Л.: АН СССР, 1962. Т. 1. С. 583-607.
- Заваркина М. В. Жанр как категория поэтики (проблемы, тенденции, перспективы) // Проблемы исторической поэтики. 2020. Т. 18. № 1. С. 7-35 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_ pdf/1582887863.pdf (10.05.2020). DOI: 10.15393/j9.art.2020.7562
- Захаров В. Н. Система жанров Достоевского: типология и поэтика. Л.: Изд-во Ленинградскогого ун-та, ЛГУ 1985. 208 с.
- Захаров В. Пасхальный сюжет // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: канонические тексты. Петрозаводск: ПетрГУ, 1997. Т. 3. C. 764-765.
- Захаров В. Н. Проблема жанра в «школе» Бахтина (М. М. Бахин, П. Н. Медведев, В. Н. Волошинов) // Русская литература. 2007. № 3. С. 19-30.
- Кирпотин В. Я. Достоевский в шестидесятые годы. М.: Худож. лит., 1966. 560 с.
- Лебедев Ю. В. У истоков эпоса (очерковые циклы в русской литературе 1840-1860-х годов). Ярославль: Яросл. пед. ин-т, 1975. 162 с.
- Лихачев Д. С. «Предисловный рассказ» Достоевского // Лихачев Д. С. Литература — Реальность — Литература. Л.: Сов. писатель, 1981. С. 117-126.
- Медведев П. Н. Собр. соч.: в 2 т. СПб.: Росток, 2018.
- Мейер И. М. Рифма ситуаций в одном романе Достоевского // IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. М., 1962. Т. 1. С. 600-601.
- Мишин И. Т. Проблематика и художественные особенности романа Достоевского «Записки из Мертвого дома» // Учен. зап. Армавирск. гос. пед. ин-та. 1957. Т. 3. Вып. 2. С. 109-161.
- Туниманов В. А. Творчество Достоевского (1854-1862). Л.: Наука, 1980. 294 с.
- Чирков Н. М. О стиле Достоевского: проблематика, идеи, образы. М.: Наука, 1967. 303 с.
- Цейтлин А. Г. Становление реализма в русской литературе: русский физиологический очерк. М.: Наука, 1965. 317 с.
- Шкловский В. Б. За и против. Заметки о Достоевском. М.: Сов. писатель, 1957. 259 с.
- Этов В. И. Достоевский. Очерк творчества. М.: Просвещение, 1968. 384 с.
- Якубович И. Д., Федоренко Б. В. [Примечания] // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1972. Т. 4. С. 279-288.