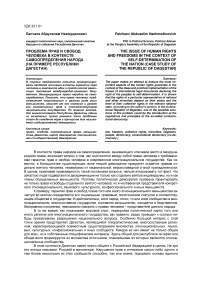Проблема прав и свобод человека в контексте самоопределения народа (на примере Республики Дагестан)
Автор: Палчаев Абдуселим Нажмудинович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Политические науки
Статья в выпуске: 18, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка проанализировать наиболее значимые аспекты гарантии прав человека в контексте идеи и практической реализации положения международно-правовых документов, декларирующих право народов на самоопределение. Показано, что права человека, представителя национальных и разного рода иных меньшинств, зависят от его статуса и уровня его коллективных прав в соответствующем национальном государстве. По мнению автора, для многосоставной Республики Дагестан одним из возможных путей решения этой проблемы стало бы введение норм и принципов так называемой сообщественной демократии.
Право, свобода, коллективные права, меньшинства, дагестан, народ, демократия, консоциатив-ная (со-общественная) демократия
Короткий адрес: https://sciup.org/14936219
IDR: 14936219 | УДК: 321.01
Текст научной статьи Проблема прав и свобод человека в контексте самоопределения народа (на примере Республики Дагестан)
В контексте права народов на самоопределение, занимающего ключевое место в международном праве, возникает вопрос о том, как соотносятся между собой права человека с требованиями гарантии прав и свобод человека в современном многонациональном государстве. Как известно, в большинстве существующих ныне теорий демократии приоритет отдается правам отдельно взятого человека, независимо от национальной, вероисповедной и иной принадлежности. В целом, признавая правомерность такой постановки вопроса, нельзя игнорировать тот факт, что зачастую люди подвергаются дискриминации не только как отдельно взятые индивидуумы, но и как члены определенных меньшинств. Поэтому политическая демократия призвана гарантировать не только права и свободы отдельного взятого человека, но и человека как представителя конкретного этнонационального, языкового, культурного, конфессионального и иных меньшинств.
К примеру, гарантия прав и свобод члена того или иного этнонационального меньшинства зачастую во многом определяется его социальным, правовым, политическим статусом в соответствующем обществе и государстве. И действительно, если народ, этнос, то или иное сообщество в многонациональном, многосоставном государстве, составляя меньшинство, находится в бедственном, бесправном положении, невозможно говорить о правах человека - представителя данного народа.
В то же время, как показывает мировой опыт, перекройка политической карты того или иного региона или многонационального государства, как правило, редко приводит к сколько-нибудь приемлемому разрешению национального вопроса. Особенно большой интерес с этой точки зрения представляет Дагестан, являющийся плюралистическим, многосоставным регионом, характеризующимся совместным существованием множества этнонациональных, языковых, культурных, конфессиональных и иных сообществ. Каждое из них имеет не только общие для всех, но и собственные специфические интересы. Здесь общий для республики интерес или общая воля формируется из множества источников, главнейшими из которых являются этнона-циональные сообщества.
В этом контексте Дагестан имеет много общего с Российской Федерацией в целом. Не зря его иногда называют Россией в миниатюре. Нарушение прав и интересов какого-либо одного и тем более нескольких из этих сообществ способно, так или иначе, подорвать основы единого интереса и единой воли, что, в свою очередь, может создать эффект мины замедленного действия, заложенной под фундамент единого Дагестана. Любая этнонациональная общность, подвергающаяся дискриминации, будет бороться за свои права, а результатом такой борьбы могут стать разного рода межнациональные раздоры и конфликты, способствующие усилению дезинтеграционных тенденций.
Одновременно с этим многосоставность общества, наличие множества сегментов в лице этнонациональных и иных меньшинств не всегда и необязательно служат фактором стимулирования дезинтеграционных тенденций. Непременным условием предупреждения и предотвращения подобных тенденций являются обеспечение и гарантия прав всех без исключения меньшинств. Такие права не только совместимы с единством многосоставного общества, но и могут выступать необходимым условием его укрепления и сохранения.
Здесь можно привести пример таких общепризнанных демократических стран, как США, Канада, Швейцария и т. д., где голос сторонников признания и защиты коллективных прав становится всё более настойчивым и находит отклик во властных структурах. Об этом свидетельствует, например, так называемая политика афирмативных действий, проводимая властями США, суть которой состоит в выделении представителям разного рода меньшинств в лице афроамериканцев, индейцев, гомосексуалистов и т. д. квоты рабочих мест на предприятиях, в государственных учреждениях, организациях; студенческих мест в университетах, колледжах и т. д. Эта практика в той или иной степени осуществляется и в других демократических странах.
О крайней необходимости тщательного исследования этой проблемы свидетельствует тот факт, что в современном мире, в котором уже большинство стран стоит перед перспективой культурной плюрализации и превращения в фактически многосоставные или многокультурные общества, эта проблема неизбежно приобретает всё более растущую актуальность и значимость.
При таком положении вещей следует отказаться от бытующего среди определенной части исследователей и аналитиков ошибочного по своей сути представления о несовместимости коллективных прав с ценностями, принципами и нормами политической демократии. Ставя в центр внимания отдельно взятого индивида, его интересы и права, они убеждены в том, что эти права и интересы нельзя связывать с его принадлежностью к тому или иному меньшинству, что демократическое государство должно занимать нейтральную позицию в отношении к этнокультурным группам и другим национальным, культурным и иным меньшинствам.
Разного рода меньшинства многонациональных государств имеют возможность добиваться гарантии личных и коллективных прав, необязательно на пути достижения национального самоопределения вплоть до создания независимого моноэтнического государства. Весь опыт постсоветского периода страны свидетельствует, что силовой или иной путь решения межнациональных и иных противоречий и конфликтов показал всю свою бесперспективность и контрпродуктивность. По сути дела, почти все попытки того или иного народа силой добиться цели создания собственного моноэтнического государства привели к далеко идущим трагическим последствиям, прежде всего отразившимся на этом народе. Во многих случаях политический кризис перерастал в межнациональный конфликт и заканчивался той или иной формой этнической «чистки».
Такое понимание проблемы приобретает особую значимость для Республики Дагестан, где важнейшие сферы жизни, в том числе политическая, пронизаны этнонациональными, племенными, клановыми, клиентелистскими и иными началами. Политические симпатии и антипатии людей в значительной степени определяются их принадлежностью к определенной этнонацио-нальной группе, тухуму, языку, клану, местности. Здесь нет просто абстрактных, статистических избирателей, а есть избиратели-лезгины, избиратели-кумыки, избиратели-аварцы и т. д. Поэтому одной из основополагающих проблем государственно-политического устройства Республики Дагестан является создание институтов, отношений, ценностей гражданского общества, каналов обратной связи власти и народа.
В плюралистических или многосоставных обществах, к каким относится и Дагестан, чем откровеннее власть одного или двух-трех сегментов, тем сильнее угроза целостности и благополучию всей системы. Как представляется, одним из перспективных путей решения проблемы межнациональных отношений и обеспечения единства республики могло бы стать введение элементов так называемой консоциативной, или со-общественной, демократии, которая в ряде стран уже продемонстрировала свою жизнеспособность и эффективность.
Один из известных разработчиков данной модели американский политолог А. Лейпхарт выделил четыре принципа со-общественной демократии: реализация власти с помощью «большой коалиции» политических лидеров всех значительных сегментов многосоставного общества; взаимное вето, или правило «совпадающего большинства», выступающее как дополнительная гарантия жизненно важных интересов меньшинства; пропорциональность политического представительства, назначений на посты в государственной службе и распределения общественных фондов; высокая автономность каждого сегмента в осуществлении своих внутренних дел [1, с. 86].
Главная особенность со-общественной демократии в отличие от конкурентного типа демократии, в котором политические лидеры разделены на правительство, парламентское большинство и влиятельную оппозицию, заключается в том, что политические лидеры всех основных социально-политических сил совместно управляют страной в рамках большой коалиции, пользующейся поддержкой не просто большинства, а подавляющего большинства населения. Такая коалиция предполагает умеренность позиций и готовность к компромиссу со стороны элит всех сегментов, а в случае с Дагестаном – всех этнонациональных сообществ.
Принцип большой коалиции дополняется правом любого входящего в нее меньшинства наложить вето на решения, которые не отвечают его интересам. Поскольку все сегменты заинтересованы в жизнеспособности и эффективности системы, судя по опыту традиционных со-обществен-ных демократий, каждое из меньшинств не будет злоупотреблять правом вето. В то же время оно дает каждому сегменту или этнонациональному меньшинству чувство уверенности, что служит фактором, предотвращающим конфликты между различными группами за господство, а также устремления к сепаратизму, что, в свою очередь, служит гарантией сохранения единства государства.
Принцип пропорционального включения в правящую коалицию почти всех вошедших в парламент партий противоположен принципу «победителю принадлежит вся власть», поскольку посты в системе государственной власти и финансовые ресурсы распределяются пропорционально весу и численности соответствующих групп.
В сфере своих исключительных интересов каждая социально-политическая сила пользуется самой широкой автономией. Она делегирует полномочия центральному правительству по всем вопросам, затрагивающим всё политическое сообщество, в нашем случае всю Республику Дагестан. Как писал А. Лейпхарт, «природе со-общественной демократии вполне соответствует то, что она (по крайней мере в своей начальной фазе) делает многосоставное общество еще более неоднородным. Смысл ее не в устранении и не в ослаблении противоречий между сегментами, а в открытом признании их и превращении сегментов в конструктивные элементы стабильной демократии» [2, с. 94].
Такой подход основан на осознании важности и значимости проблемы совмещения цели сохранения единства Дагестана как многосоставного, многонационального сообщества с целями реформирования и демократизации экономики, социальной и политической сфер, а также межнациональных отношений. Для этого необходимо, с одной стороны, признание существования в Дагестане исторически сложившихся народов со своими языками, культурами, традициями, территорией, специфическими для каждого из них национальными интересами и т. д. С другой стороны, необходим учет того непреложного факта, что эти народы самой историей, а также нынешними социальными, экономическими, политическими и иными факторами буквально принуждены жить в пределах единой республики, разделение которой не принесет дивидендов ни одному из составляющих ее народов.
Эти цели можно реализовать лишь на путях предоставления каждой, во всяком случае крупной, этнонациональной группе (их в Дагестане всего 14) в сфере своих исключительных интересов самой широкой автономии, не только национально-культурной, но и национально-территориальной. Каждая из них делегировала бы полномочия центральному правительству по всем вопросам, затрагивающим всё политическое сообщество, в нашем случае весь Дагестан. Смысл этой системы – в открытом признании и превращении в конструктивных составляющих стабильной демократии каждой группы, что служит необходимым условием для поиска эффективных средств и путей ослабления противоречий и конфликтогенности региона.
Необходимо учесть, что в любой модели демократического устройства Дагестана на первое место выдвигается проблема национального устройства, что невозможно без демократизации в сфере межнациональных отношений. Для этого необходимо разработать и реализовать такую национальную политику, которая основывалась бы на двуединой стратегии обеспечения прав всех народов и всемерного содействия факторам и тенденциям.
Ссылки:
-
1. Лейпхарт А. Со-общественная демократия // Политические исследования. 1992. № 3.
-
2. Там же.
Список литературы Проблема прав и свобод человека в контексте самоопределения народа (на примере Республики Дагестан)
- Лейпхарт А. Со-общественная демократия//Политические исследования. 1992. № 3