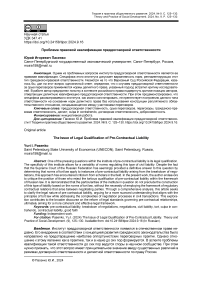Проблема правовой квалификации преддоговорной ответственности
Автор: Пасенко Ю.И.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 9, 2024 года.
Бесплатный доступ
Одним из проблемных вопросов института преддоговорной ответственности является ее правовая квалификация. Специфика этого института допускает вариативность норм, регламентирующих этот тип гражданско-правовой ответственности. Несмотря на то что Верховный Суд Российской Федерации, казалось бы, дал на этот вопрос однозначный ответ, определив, что к случаям преддоговорной ответственности за срыв переговоров применяются нормы деликтного права, указанный подход встретил критику исследователей. В работе автор предпринял попытку в контексте российского права подвергнуть критике позицию авторов, отвергающих деликтную квалификацию преддоговорной ответственности. При этом продемонстрировано, что специфика рассматриваемого института, как можно констатировать, не препятствует построению данного типа ответственности на основании норм деликтного права без использования конструкции регулятивного обязательственного отношения, складывающегося между участниками переговоров.
Преддоговорная ответственность, срыв переговоров, переговоры, гражданско-правовая ответственность, деликт, договорная ответственность, добросовестность
Короткий адрес: https://sciup.org/149146406
IDR: 149146406 | УДК: 347.41 | DOI: 10.24158/tipor.2024.9.16
Текст научной статьи Проблема правовой квалификации преддоговорной ответственности
Проблема квалификации ответственности за срыв переговоров: общие вопросы . Традиционно в гражданском праве Германии ответственность за срыв переговоров квалифицируется в качестве договорной (Zuloaga, 2019: 18). Это связано с несовершенством системы деликтного права этой страны и, как следствие, сложностями при взыскании чисто экономических потерь, образующихся при допущении преддоговорных нарушений (Лугманов, 2019).
В то же время право Франции квалифицирует преддоговорную ответственность в качестве деликтной (Precontractual liability…, 2008: 458). Это обусловлено существующей в этой стране системой генерального деликта, в рамках которой основанием ответственности служит факт причинения вреда как такового при условии наличия прочих атрибутов ответственности.
В некоторых странах принято рассматривать указанный вид ответственности как явление, которое затруднительно однозначно отнести к деликтной или договорной ответственности (Фоварк-Коссон, 2013). Например, швейцарские суды указывают на то, что в рамках такой ответственности сосуществуют признаки как деликтной ответственности, так и договорной.
В ГК РФ формальные признаки генерального деликта содержатся в пункте 1 ст. 1064, устанавливающем общее правило, что причиненный вред подлежит возмещению. Кроме того, большинство отечественных ученых разделяют такое видение, хотя и подчеркивается, что данный принцип реализуется не в полной мере в ГК РФ (Евстигнеев, 2017).
Так, принцип генерального деликта предполагает, что в основе ответственности лежит значительное судейское усмотрение, поскольку его центральным элементов является вина. Между тем отечественные ученые и судьи склонны делать акцент на противоправности поведения лица, что нехарактерно для генерального деликта (Евстигнеев, 2017). Вообще генеральный деликт в отличие от системы, строящейся на основании закрытого перечня, базируется на том, что законодателем даются только признаки деликта.
В контексте преддоговорной ответственности такой признак, как противоправность, может быть истолкован через нарушение лицом требования добросовестности, отраженное в п. 4 ст. 1 ГК РФ. Примечательно, что примерно похожим образом действует немецкий законодатель, который в § 826 Германского гражданского уложения отразил, что вред, причиненный в результате умышленного нарушения добрых нравов, подлежит возмещению. Однако российское законодательство в силу формулировок п. 1 ст. 1064 ГК РФ позволяет расширить сферу применения этого правила и на случаи неосторожного причинения вреда. Причем такое расширение случаев ответственности за «недобросовестный» вред соответствует и тенденциям немецкой судебной практики (Лугманов, 2019).
Кроме того, это позволяет обосновать подход Верховного Суда Российской Федерации, указавшего на применимость гл. 59 к рассматриваемым отношениям. В связи с этим п. 8 ст. 434.1 ГК РФ необходимо понимать как указание на общий режим преддоговорной ответственности, если сторонами не было заключено соглашение о порядке переговоров, предусмотренное пунктом. Кроме того, указанный пункт не может рассматриваться в контексте системы ст. 434.1 ГК РФ как однозначно определяющий природу анализируемого института, поскольку прочие ее положения не приоткрывают завесу этой тайны, а лишь содержат в себе презумпции, определение основных составов преддоговорной ответственности и понятия преддоговорных убытков.
Аргументы в пользу обязательственной природы ответственности . Обосновывая преддоговорную ответственность, автор оригинальной концепции Рудольф фон Иеринг указывал на ее договорный характер. Он отмечал, что основанием такой ответственности служит требование преддоговорной осмотрительности, которое накладывается на стороны еще до момента заключения договора (Иеринг, 2013). Дальнейшее развитие теории Р. Иеринга привело к тому, предложенная им концепция нашла отражение в законодательстве. Так, в § 311 Германского гражданского уложения указано, что стороны связаны требованием добросовестности с момента начала деловых контактов.
В п. 3 ст. 307 ГК РФ отечественный законодатель закрепил похожий подход. Так, стороны должны учитывать взаимные права и интересы в том числе при заключении договора. На основании этого некоторые цивилисты подмечают, что деликтная природа ответственности за срыв переговоров имеет логический изъян, так как ее прямым следствием является то, что одинаковые на первый взгляд обязанности в случае нарушения приводят к совершенно разным последствиям (Нам, 2023: 281). Однако сама по себе ссылка на п. 3 ст. 307 ГК РФ еще не может быть рассмотрена в качестве аргумента, подтверждающего, что советующие отношения имеют обязательственную природу.
В другой исследовательской работе отмечается, что основание такой ответственности стоит искать не только в п. 3 ст. 307 ГК РФ, но и в п. 1 ст. 8 ГК РФ (Райников, 2023). Необходимо согласиться с этим утверждением, поскольку представляется недостаточным указание исключительно на наличие некоторых обязанностей сторон переговоров, проистекающих из п. 3 ст. 307 ГК РФ. Если мы квалифицируем отношения, в рамках которых они существуют, в качестве обязательства, нужно, чтобы источник его возникновения укладывался в систему юридических фактов, служащих основанием появления обязательств.
При этом упомянутый автор обращает внимание, что в основе такого преддоговорного отношения лежит позитивная обязанность по раскрытию информации, которая выступает центральным элементом взаимодействия сторон на этапе переговоров (Райников, 2023). Стоит поддержать это, ведь главной задачей переговоров о заключении договора является создание возможности прицениться к сделке и понять ее необходимость (Precontractual liability…, 2008: 455). Именно поэтому информационный обмен, как представляется, выходит на первый план в этой конструкции, однако едва ли он может обосновать весь спектр взаимоотношений сторон, развивающихся на указанном этапе жизни договора.
Таким образом, рассмотренная концепция преддоговорной ответственности сводится к признанию за переговорами обязательственной, квазидоговорной природы.
Квазидоговор позволяет законодателю в необходимых случаях придать отношению характер договорного, в то время как договор в его подлинном смысле между сторонами отсутствует (Рай-ников, 2023). Например, такая необходимость может возникнуть при действии в чужих интересах без поручения, когда действия лица в полной мере отвечают тем базовым ценностям, на которых строится оборот, однако в силу обстоятельств он не может заключить договор с заинтересованным лицом. Квазидоговор характеризует то, что его последствия возникают помимо воли его участников, что не совсем характеризует преддоговорные отношения, в связи с чем такая терминология кажется неверной1. Между тем вопрос терминологии здесь имеет скорее вторичное значение, так как ключевое – характеристика переговоров как обязательственного отношения (Нам, 2023: 282).
Практические затруднения применения норм деликтной ответственности . Проблемой деликтной теории, на которую указывают ее противники, являются затруднения в применении норм гл. 59 ГК РФ к отношениям, возникающим при привлечении к рассматриваемой ответственности.
Во-первых, отмечается, что важнейшим началом деликтной ответственности выступает виновность правонарушителя, что, однако, не до конца сочетается с ответственностью, построенной на нарушении обязанностей, проистекающих из принципа добросовестности, носящего объективный характер (Райников, 2023).
Между тем принцип добросовестности направлен на то, чтобы выравнивать действующее регулирование, когда в ситуации строго формального применения нормы права получаемый результат не может соответствовать тем ценностным установкам, которые лежат в фундаменте законодательства. Поэтому, как подмечается, решения, основанные на упомянутом принципе, скорее направлены на разрешение конкретной ситуации, не укладывающейся в парадигму ценностей, заложенных в законодательство, чем на формирование общих правил (Нам, 2023: 227).
В связи с этим, как кажется, объективность принципа добросовестности не может рассматриваться в духе иеринговской осмотрительности. Так, немецкий цивилист, анализируя вину за culpa in contahendo как несвязанную обстоятельствами конкретного случая, приводил в пример ответственность доверителя за убытки мандатария, причиненные порученным делом, когда даже принятие мер предосторожности все равно не освобождает от ответственности (Иеринг, 2013).
В противоположность этому стандарт добросовестного поведения должен учитывать особенности конкретного случая. Ведь его главная задача – ответить на вопрос: как бы средний участник оборота повел себя в этой ситуации, какие бы он предпринял действия. Без учета обстоятельств конкретного случая принцип добросовестности не мог бы адекватно реализовать заявленную задачу.
Вместе с тем именно на предполагаемых действиях причинителя вреда, которые он должен был осуществить, исходя из сложившихся стандартов поведения, и строится объяснение вины (Годэмэ, 1948: 319–320). Виновность в рамках гражданского права означает игнорирование лицом ценностей, которые заложены в обороте и которые требуют от него совершения действий в тех или иных ситуациях.
Таким образом, как стандарт добросовестности, так и стандарт невиновности пересекаются. Однако не до конца ясно, как это влияет на возможность применения деликтной ответственности к преддоговорным нарушениям. Наоборот, тот факт, что оба стандарта основаны на одинаковых предпосылках, исключает случи коллизии между ними, что скорее служит подтверждением деликтной теории. При этом важно отметить, что принцип добросовестности в этом контексте играет роль в части обоснования противоправности поведения. Ведь им устанавливается стандарт поведения, нарушение которого становится противоправным.
Во-вторых, в качестве критики деликтной модели преддоговорной ответственности указывается императивный характер норм гл. 59 ГК РФ (Чистяков, 2022). Действительно, стоит согласиться с автором, что при переговорах центральное место занимает тот факт, что стороны связаны некими отношениями, в рамках которых они могут согласовать те или иные вопросы, относящиеся к ответственности. Не вдаваясь в глубокий политико-правовой анализ норм гл. 59 ГК РФ, отметим, что деликтное обязательство остается в первую очередь обязательством, поэтому, например, к нему применимы различные способы его прекращения, которые подразумевают определенную долю свободы усмотрения сторон. Кроме того, абзац второй п. 3 ст. 1064 ГК РФ позволяет согласовать причинение вреда, в результате чего ответственность не будет наступать.
Таким образом, едва ли общий подход отечественного законодателя направлен на насыщение гл. 59 ГК РФ исключительно императивными нормами.
Как представляется, большие затруднения вызывает возможность снижения размера ответственности и случаи ответственности представителя. Эти аргументы, однако, не являются сами по себе оправдывающими природу анализируемого института, так как касаются не его сущностных характеристик, а затруднений его реализации в рамках соответствующей парадигмы. Вместе с тем эти недостатки необходимо проанализировать на предмет возможности преодоления.
Начнем со снижения размера ответственности. В рамках договорной ответственности указанный вопрос регулируется статьей 404 ГК РФ. Согласно указанной норме, размер ответственности может быть снижен при наличии вины потерпевшего, когда в результате его действий размер вреда увеличился, а также в случае непринятия разумных мер для снижения вреда. Таким образом, указанное правило содержит по своей сути два основания для уменьшения вреда: вину кредитора и нарушения обязанности по митигации вреда.
Наиболее простым является объяснение снижения размера вреда при нарушении обязанности по минимизации вредоносных последствий правонарушителя. Представляется, что не должно быть сомнений по поводу возможности применения указанного института к деликтным отношениям, ведь снижение объема ответственности в таком случае происходит из-за нарушения причинной связи (Акимова, 2019).
Так, при игнорировании обязанности по митигации вреда потерпевший своим бездействием, приводящим к еще большим негативным последствиям, разрушает существующую причинную связь между действиями правонарушителя и их негативным влиянием на имущественную сферу потерпевшего. В таком случае нельзя однозначно сказать, что весь объем причиненного вреда является последствием поведения его причинителя. Иначе говоря, причинно-следственная связь при таком развитии событий перестает быть прямой, в результате чего оценить реальное отрицательное воздействие поведения правонарушителя затруднительно.
Более сложно объяснить механизм снижения размера деликтной ответственности при наличии вины потерпевшего в форме легкой небрежности, а не грубой неосторожности. Ведь согласно п. 2 ст. 1083 ГК РФ снижение объема ответственности за причинение вреда возможно только при грубой неосторожности.
Вместе с тем, как отмечается в литературе, сложно провести четкую линию, позволяющую ясно обозначить тот момент, когда действия или бездействие участника гражданского оборота трансформируются из легкой небрежности в грубую неосторожность (Байбак, 2016). Думается, что в первую очередь это обусловлено зависимостью итогового суждения о наличии вины в форме грубой неосторожности или легкой небрежности особенностями конкретного случая. Иначе говоря, в рамках этой проблематики крайне затруднительно выработать общий подход. Однако в качестве ориентира в поисках правильного ответа кажется наиболее правильным опираться на те стандарты поведения, которые являются самыми распространенным в соответствующей области общественных отношений.
Так, довольно емко и в то же время точно Верховный Суд Российской Федерации отмечает, что грубая неосторожность прямо связана c нарушением тех требований, которые обычны и очевидны для всех участников той или иной сферы деятельности1. Из этого следует, что при применении нормы п. 2 ст. 1083 ГК РФ необходимо учитывать стандарты поведения, обычные для данной сферы.
Общей нормой, регулирующей ход переговоров, является статья 434.1 ГК РФ. В п. 2 этой статьи указано, что участники переговоров обязаны действовать добросовестно. В свою очередь, маркеры добросовестного поведения раскрываются в п. 3 ст. 307 ГК РФ. В упомянутой норме в качестве составляющих добросовестного поведения понимаются учет прав и законных интересов контрагента, содействие в достижении цели обязательства, предоставление необходимой информации.
Таким образом, в контексте деликтной ответственности за правонарушения, совершенные на преддоговорной стадии, грубая неосторожность выражается в том, что само правонарушение и его вредоносный результат или увеличение объема вреда явилось следствием того, что одним из контрагентов были допущены нарушения требований, проистекающих из принципа добросовестности, которые являются обычным и очевидными для всех участников подобных отношений. Например, описанная ситуация может иметь место в случае, когда в результате непредоставле-ния в ходе переговоров информации, которая, исходя из контекста переговоров, была необходима другой стороне, противоположный участник переговорного процесса покидает их в момент, когда стороны готовы подписать итоговый договор. В данном случае выход из переговоров в целом может показаться необоснованным и неожиданным, однако он является не результатом недобросовестности контрагента, принявшего это решение, а следствием непредоставления ему важной для него информации, что должно быть учтено судом при решении вопроса о его ответственности за сорванные переговоры.
Резюмируя, отметим, что вопрос ограничения или снятия ответственности с лица, допустившего нарушение на преддоговорной стадии, как кажется, не может быть отнесен к числу нерешаемых задач в рамках деликтной модели. Представляется, что текущее состояние развития отечественного законодательства и доктрины позволяют найти пути его решения без придания преддоговорным отношениям характера обязательства.
Еще одно затруднение, с которым сталкивается деликтная концепция, связано с применением этих норм к случаям нанесения вреда представителем лица. Согласно ст. 1068 ГК РФ, лицо отвечает за действия третьих лиц лишь в случае, если указанные лица осуществляли деятельность в рамках трудовых отношений или в связи с выполнением задания по договору, когда лицо должно было обеспечивать безопасный ход его осуществления. Из содержания нормы следует, что предпосылкой возложения ответственности за действия третьего лица является наличие обязанности и возможности контролировать ход деятельности такого лица.
Впрочем, данная норма не кажется полностью отвергающей возможность наложения ответственности на представителя одной из договаривающихся сторон. Действительно, в основном переговорщики, как правило, имеют широкую степень автономности в том, каким образом вести переговоры за своего клиента (Райников, 2023). Вместе с тем данный факт не опровергает того, что клиент должен осуществлять контроль за его действиями, что следует в любом случае из положений п. 3 ст. 307 ГК РФ.
Кроме того, цель ст. 1068 ГК РФ видится в том, чтобы возложить риски, связанные с привлечением третьих лиц в свою деятельность, на лицо, которое это делает. Иначе говоря, данную норму стоит толковать немного шире, включая в сферу ее действия в принципе случаи, когда третье лицо привлекается участником оборота для осуществления деятельности в его интересах. Это подтверждается и международными актами кодификации гражданского права. Например, модельные правила европейского частного права в ст. VI – 3.201 исходят из привлечения третьего лица к осуществлению деятельности.
Проблема квалификации преддоговорной ответственности: итог . Содержание ст. 307 ГК РФ устанавливает лишь определенный стандарт добросовестного поведения на этапе заключения договора. Само по себе это не свидетельствует о наличии именно обязательственной связи. Нарушение этого стандарта скорее служит обоснованием для констатации виновности и противоправности действий правонарушителя.
При этом статья 434.1 ГК РФ также не содержит указания на природу ответственности. Напротив, пункт 1 указанной статьи содержит указание на базовый принцип перераспределения расходов на этом этапе. Пункты 2–4 направлены на то, чтобы конкретизировать составы такой ответственности и ввести понятие преддоговорных убытков. Отдельного внимания заслуживают пункт 5, который закрепляет право на заключение соглашения о ведении переговоров, и пункт 6, который ограничивает применение указанной ответственности в отношениях с потребителями.
В связи с этим привязкой к режиму ответственности является пункт 8 указанной статьи. При этом указание ВС РФ в его разъяснениях на то, что глава 59 ГК РФ применяется с исключениями, нужно понимать как указание именно на п. 5, ведь в результате нарушения такого соглашения нарушается не общий стандарт поведения, а нормы конкретного договора.
Деликтная концепция требует преодоления ряда сложностей, игнорирование которых может препятствовать эффективному применению исследуемой нормы. В частности, неправильное понимание особенностей применения ст. 1083 ГК РФ в контексте преддоговорных нарушений способно повлечь невозможность для потерпевшего взыскать свои потери полностью, поскольку вполне очевидно, что представитель контрагента просто может не иметь таких средств. Ясно, что подобный риск неприемлем и не согласуется с основными началами гражданского права. Однако указанные проблемы не носят неустранимый характер.
Список литературы Проблема правовой квалификации преддоговорной ответственности
- Акимова И.И. Смешанная вина и снижение убытков за нарушение договора // Опыты цивилистического исследования: сб. ст. / отв. ред. А.М. Ширвиндт, Н.Б. Щербаков. Вып. 3. М., 2019. С. 6–26.
- Байбак В.В. Общие условия ответственности за нарушение обязательств в ст. 401 ГК РФ: старые правила в новом контексте // Закон. 2016. № 10. С. 132–143.
- Годэмэ Е. Общая теория обязательств / пер. с фр. И.Б. Новицкого. М., 1948. 512 с.
- Евстигнеев Э.А. Принцип генерального деликта: современное состояние и перспективы применения (часть вторая) // Вестник гражданского права. 2017. Т. 17, № 5. С. 55–84.
- Иеринг Р. Culpa in contrahendo, или возмещение убытков при недействительности или незаключенности договоров // Вестник гражданского права. 2013. Т. 13, № 3. С. 190–266.
- Лугманов Р.Р. Деликтное право как средство взыскания чисто экономических убытков // Вестник экономического правосудия РФ. № 2. 2019. С 115–153.
- Нам К.В. Принцип добросовестности: развитие, система, проблемы теории и практики. М., 2023. 388 с.
- Райников А.С. Отношение, возникающее при проведении переговоров о заключении договора по российской праву: антиделиктная концепция // Вестник гражданского права. 2023. Т. 23, № 2. С. 50–80. https://doi.org/10.24031/1992-2043-2023-23-2-50-80.
- Фоварк-Коссон Б. Переговоры о заключении и пересмотре договора: французская перспектива // Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации. 2013. № 2. С. 40–58.
- Чистяков П.Д. Деликтная квалификация преддоговорной ответственности в российском праве: pro и contra // Закон. 2022. № 5. С. 146–156. https://doi.org/10.37239/0869-4400-2022-19-5-146-156.
- Precontractual liability in European private law / ed. by J. Cartwright, M.W. Hesselink. Cambridge, 2008. 536 p.
- Zuloaga I. Reliance in the breaking-off of contractual negotiations. Cambridge, 2019. 452 p. https://doi.org/10.1017/9781780689524.