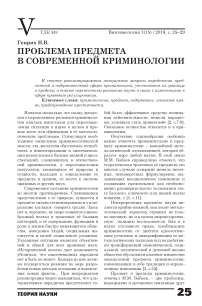Проблема предмета в современной криминологии
Автор: Генрих Н.В.
Журнал: Виктимология @victimologiy
Рубрика: Теория науки
Статья в выпуске: 1 (15), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются актуальные вопросы определения предметной и содержательной сферы криминологии, уточняются их границы и пределы, а также перспективы развития науки в связи с изменениями в сфере правового регулирования.
Криминология, предмет, уголовное право, предупреждение преступности
Короткий адрес: https://sciup.org/14118657
IDR: 14118657 | УДК: 343
Текст научной статьи Проблема предмета в современной криминологии
Начатая несколько лет назад дискуссия о перспективах развития криминологии явилась импульсом для переосмысления ситуации в науке в целом и прежде всего для обращения к её методологическим проблемам. Стимулируя необходимое оживление криминологической мысли, эта дискуссия обусловила потребность в инвентаризации и систематизации накопленного багажа знаний и представлений, сложившихся в отечественной криминологии, в переосмыслении постулатов, касающихся её природы и сущности, подходов к определению ее предмета и границ, её места в системе правовых и других наук.
Современное состояние криминологии во многом противоречиво. Сложившихся представления о ее природе, сущности и предмете сильно сегментированы и о плюрализме взглядов говорить трудно. Здесь нет и, вероятно, не скоро появится единообразный подход к трактовке её базовых категорий, к её содержанию, функциям и роли в жизни быстро меняющегося общества, поведения людей, социальных институтов и целей социального развития. Указанная ситуация является объективной и общей для всех правовых наук. «Исторический анализ дает возможность убедиться, что самоочевидных парадигм нет и быть не может. Каждая из них должна подвергаться ревизии по мере разработки новых методов познания и накопления новых фактов... При непредвзятом рассмотрении может выясниться, что альтернативная парадигма представляет со- бой более эффективное средство понимания действительности, нежели парадигма, успевшая стать привычной» [2, c.7-8]. Сказанное полностью относится и к криминологии.
Отсутствие единообразия особенно важно отметить применительно к предмету криминологии — важнейшей методологической составляющей, которая образует ядро любой науки. В этой связи М.М. Бабаев справедливо отмечал, что теоретическая трактовка её предмета «во многих случаях содержит немало неточных, неконкретных формулировок, вызывающих неоднозначное понимание и создающих предпосылки для необоснованно расширительного толкования этого базового, ключевого для нашей науки понятия...» [1, c.11] .
Интерпретация предмета науки является крайне важной; она носит методологический характер, отражая не только научную, но и в целом мировоззренческую позицию исследователя. Как и в науке уголовного права, освобождение криминологии от диктата идеологических установок и диверсификация ее методологических подходов под воздействием трансформаций экономической, социальной, политической и духовной жизни общества обусловили наличие множества определений предмета криминологии, совмещающих в себе традиции и определенные инновации [3, c.53].
Предмет и пределы криминологии, отмечал М.М. Бабаев, – две проблемы, неразрывно и органично связанные друг с другом, две ипостаси фактически одной и той же научной категории, определяющей самую суть отрасли знания. С этой формулой в целом следует согласиться, но здесь есть важный методологический нюанс, требующий уточнения. Дело в том, что пределы криминологии, скорее, относятся не к одной и той же» категории (предмету), а к разным категориям, а именно, к объекту и (или) содержанию криминологии. Вместе с предметом эти ипостаси и определяют суть науки.
Основу любой науки составляет ее предмет. Поэтому определение ее предмета является отправной точкой для формирования и развития всякой науки, для понимания её природы, сущности, понятийного аппарата и места в системе научных знаний. Между тем в литературе сколь-либо единый подход к определению предмета криминологии отсутствует. Одни авторы трактуют ее предмет весьма широко, включая в него чуть ли не весь круг объектов криминологического интереса (организацию конкретных криминологических исследований; управление процессами борьбы с преступностью; криминологическое прогнозирование и методы исследований; методологию и историю науки и т.д.). Другие ограничиваются традиционным перечислением четырех элементов предмета (преступность, ее причины, личность преступника, предупреждение преступлений).
В учебнике Д.А. Шестакова соответствующий раздел называется «Структура и предмет криминологии», но понятие предмета в нем вообще не рассматривается, а речь идет лишь о системе и структуре криминологии, куда входят Общая криминологическая теория, Частные теории и Новейшие криминологические отрасли [10, c.25]. Эта концепция, кстати говоря, вызвала критику и опасения, что подобная дезинтеграция криминологии приведет к дальнейшему размыванию ее предмета и неопределенности его границ [8, c.196; 6, c.7].
Криминология, действительно, развивается по фронту и в глубину, идет интенсивный процесс наращивания нового знания, но здесь (особенно в «частных» теориях и в «новейших отраслях» таится опасность утраты грани между наукой и публицистикой. Криминологию и без того упрекают в чрезмерно широком предмете и отсутствии собственного метода Расширительное толкование предме- 26
та меняет угол зрения и может уводить от главного – от того, что преступность, будучи социальным явлением, «ограничена» рамками уголовного закона. Определяя понятие преступления, уголовный закон устанавливает границы преступного и наказуемого поведения, что для криминологии крайне важно и является отправным моментом. Вместе с тем предмет криминологии – преступность и социальная реакция на детерминирующие ее социальные процессы и явления, имеет более широкое социальное содержание. В этом, как известно, и состоит диалектическая связь социального и правового аспектов изучения преступности как «ядра» криминологии.
О сложности определения предмета криминологии говорит и то, что предмет нельзя рассматривать как некую на все времена заданную константу; наоборот, это категория отличается своим динамичностью, она, как и сама криминология, постоянно находится в пути, в развитии, расширяются границы и объекты криминологического интереса и, как результат, ширятся расширяются горизонты научного знания, криминология меняет свои контуры и наполняется новым содержанием. Поэтому можно ожидать, что в перспективе границы её предмета вполне могут быть расширены.
В большинстве источников отмечается, что криминология – это общетеоретическая наука о преступности, её причинах, закономерностях и мерах её предупреждения. Эта общая формула хотя и дает определенное направление мысли, но не конкретизирует предмет науки и не позволяет очертить ее границы со смежными науками. В связи с этим, важной представляется мысль о том, что криминология «должна быть системой знаний с юридически определенными и меняющимися объектом и предметом» [5, c.171]; она должна интегрировать различные теории и методы познания и должна быть направлена на получение обобщенного представления о поведенческих стереотипах, применимых к текущему социальному контексту. Развивая эти положения, А.Э. Жалинский приводит несколько сущностных черт, которые при всей значимости называет «лишь ориентирующими». К их числу относятся соображения о том, что криминологическая наука должна быть направлена на реше- ние юридических задач, связанных с определением уголовно-правовых границ дозволенности человеческого поведения и реакции на нарушение таких дозволений; что обязательной является связь криминологических знаний с действием уголовного закона и иных форм социального контроля.
В предмет криминологии, по нашему мнению, должны, во-первых, входить преступность в целом, в том числе, «фоновые» явления, влияющие на преступность, ее различные виды и конкретные (единичные) преступления, словом, феноменология преступности со всеми ее содержательными качественными и количественными характеристиками. Во-вторых, в предмет этой науки должны входить «причинная цепочка» преступности и ее составных частей; причины как закономерности, ее детерминирующие, и условия, способствующие проявлению этих причин [4, c.39].
Предмет изучения генезиса преступности, отмечает А.Э. Жалинский, «следует расширить, заменив или дополнив проблематику причинности проблематикой влияния внешних факторов на функционирование преступности и процессов воздействия на нее, включая, состояние социального доверия, уровень агрессивности... и т.д.» [5, c.173]. Эта идея требует дополнительного анализа, но, по сути, она не меняет ни указанных выше элементов, ни предлагаемой схемы предмета криминологии.
Наконец, в-третьих, в предмет криминологии должно в качестве составного элемента войти учение о жертве преступления, ибо без связи деяния с виктимностью и поведением жертвы трудно раскрыть механизм преступного поведения.
В ходе изучения науковедческих аспектов криминологии встает целый ряд методологических проблем, напрямую связанных не только с предметом, но и с определением ее сущности и содержания. Во многом, на наш взгляд, эти проблемы связаны с терминологической пестротой определений предмета криминологии, с подменой предмета объектом, содержанием или функцией науки. Это касается, прежде всего, включения в понятие предмета криминологии традиционного «квартета» её основных элементов, часть которых относится, скорее, не к предмету, а к содержанию науки, ее объекту, задачам и функциям. И главное, сами эти элементы нуждаются в переосмыслении с позиций быстрых изменений в общественной жизни, в конвенциальном решении о их содержании и принадлежности к предмету криминологии с учетом современного социального контекста.
Следует, в частности, признать проблематичность концепции личности преступника, сложность совместимости её социального и индивидуального уровня. Эта концепция, действительно, выглядит как «одна из наименее содержательных теоретически и неконструктивных практически» [9, c.183]. Такая концепция предполагает определенную заданность, хотя, как известно, преступление может совершить любой человек. К тому же, само понятие «преступление» достаточно изменчиво и, следовательно, ценность «личности преступника» как элемента предмета криминологии весьма сомнительна. Заметим, что минусы этой концепции осознаны не сегодня (на временный характер пребывания в «мундире личности преступника» указывал В.Н. Кудрявцев), но они становятся все больше очевидными. Поэтому ныне все чаще говорят о характеристике лиц, совершающих преступления, а не о «личности преступника», которая во многом является фикцией. Это вовсе не значит, что изучение таких лиц не должно входить в структуру криминологического знания, в содержание криминологии. Речь о том, что включение этого элемента непосредственно в предмет криминологии представляется более, чем сомнительным.
То же самое можно сказать и о предупреждении преступности. Здесь функции государства и функции криминологии, по сути, совпадают. Профилактика, несомненно, входит в содержание и задачи криминологии, но, как и другие функции этой науки, она выходит далеко за пределы предмета криминологии и, вопреки сложившимся представлениям, в качестве составного элемента она не должна включаться в предмет криминологии. По тем же соображениям трудно согласиться с предложением включить в предмет криминологии прогнозирование преступности, которое также является лишь функцией науки.
По мнению В. В. Лунеева в предмет криминологии должны быть включены и методы криминологических исследований, поскольку нельзя оторвать содержа- ние исследования от его методов [7, c.53]. Такое суждение, на наш взгляд, представляется недостаточно убедительным. Методы исследования, несомненно, должны быть в фокусе криминологического интереса, они непременно должны входить в содержание криминологии как инструмент познания, но они входят в ее содержательную, а не в предметную сферу. Истоки этого суждения связаны с чрезмерно широким подходом к проблеме предмета, при котором предмет криминологии отождествляется с её содержанием и объектами изучения. Но при таком подходе предмет науки может расширяться до бесконечности, с чем, видимо, согласиться трудно.
Сказанное вовсе не означает отказа от перспективы расширения сферы криминологического интереса и, соответственно, расширения предмета этой науки. Наоборот, в связи с параллельными процессами декриминализации и заметным расширением сферы административно-правового регулирования вопрос о расширении границ предмета криминологии уже сегодня становится все более актуальным. Его решение потребует дальнейшего уточнения и коррекции в разграничении предметной сферы криминологии и сферы уголовно-правового регулирования. Ибо именно предметные границы криминологии и уголовного права, как уже отмечалось, определяют содержание и перспективы развития каждой из этих наук.
Список литературы Проблема предмета в современной криминологии
- Бабаев М.М. Предмет и пределы криминологии: категории науки и феномены практики//Криминологический журнал Московского университета МВД России. 2004. № 1.
- Блувштейн Ю. Д., Добрынин А. Д. Основания криминологии. Опыт логико-философского исследования. -Минск, 1990.
- Генрих Н.В. Предмет и метод уголовно-правового регулирования. История. Теория. Практика. -М.: Норма, 2011.
- Генрих Н.В. К вопросу о предмете криминологии//Российское правосудие. 2013. №7(87).
- Жалинский А.Э. Обновление криминологии//Российский криминологический взгляд. 2011. № 2.
- Квашис В.Е. Избранные труды по уголовному праву и криминологии. -СПб., 2015.
- Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии. Общая часть. Т. 1. -М., 2011.
- Мацкевич И.М. Современная криминология: преодоление кризиса//Российский криминологический взгляд. 2011. №2. С. 192-197
- Самовичев Е.Г. О некоторых проблемных вопросах преподавания Общей части учебного курса «Криминология»//Российский криминологический взгляд. 2011. №2.
- Шестаков Д.А. Криминология: учебник. -СПб., 2006.