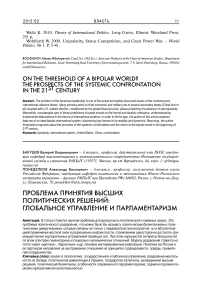Проблема принятия высших политических решений: глобальное управление и парламентаризм
Автор: Бакушев Валерий Владимирович, Понеделков Александр Васильевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Тема
Статья в выпуске: 2, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье ставится научная проблема для дискуссии в политической и смежных науках. Это проблема политического раздвоения, что можно было бы называть политическим билингвизмом и политическими дивергенциями, которые связаны не только с неадекватностью восприятия, но и абсолютизацией применения жесткой силы в разрешении конфликтности, стремлением односторонне достигать преимущественно корпоративных устремлений правящих сил. При этом нарушаются интересы большинства по всем спектрам гуманитарных и социально-экономических отношений. Модель раздвоения ставится на поток через «цветные», «бархатные» и др. похожие инспирированные революции. Политика же России и ее партнеров направлена на выстраивание отношений на принципах справедливости, правды, привилегий сотрудничества.
Кризис в геополитике, государственное и публичное управление, раздвоение ментальности на западе, политическая дивергенция в украине, государства-сателлиты, вынужденные" высшие решения, политический билингвизм, особенности современного парламентаризма, подмена парламентаризма корпоративной коллегиальностью
Короткий адрес: https://sciup.org/170167797
IDR: 170167797
Текст научной статьи Проблема принятия высших политических решений: глобальное управление и парламентаризм
Т енденции глобального мира, как и смысл глобального управления в частности, показывают, что уже в самом начале (последняя четверть XX в. – начало XXI в . ) последовательное «подтягивание» государств к цивилизационному эволюционированию и обещанное им социально-экономическое развитие для большинства не состоялось. Однополярность сдерживает именно развитие многих стран, а не обогащение отдельных кланов элит. Смысл деклараций об успешности глобального управления (модель «хорошего управления») сводится к тому, что одни – ведущие, развитые страны – передают свой опыт, а другие – «менее демократически развитые» – впитывают их рецепты ориентации в новом миропорядке.
Однако начало второго десятилетия XXI в. демонстрирует другие тенденции мировых и региональных политических процессов – противостояние, инспирирование вызовов и угроз, размывание культурных и других ценностей (религий, языков, идентичности). Искусственно или самозвано возвышается этнокультурный потенциал одних (президент США Б. Обама неоднократно безапелляционно отмечал «сверхназначение» американцев) и нарушается (невзирая на действующие нормы международного права) суверенитет других наций и народов. По экспертному мнению министра иностранных дел России С.В. Лаврова, «смена эпох» сопровождается если «не глобальными столкновениями, то цепочкой интенсивных конфликтов локального характера» 1 . И это мнение разделяют большинство россиян. Украинский кризис стал следствием проводившейся западными государствами не только ныне, но и в течение последней четверти века политики укрепления собственной безопасности в ущерб безопасности других, расширения контролируемого ими геополитического пространства (поддержка вооруженных конфликтов, волна расширения НАТО, несмотря на дававшиеся мировому сообществу обещания о формировании систем «равной и неделимой безопасности в Евро-Атлантике», и пр.). Еще более определенную характеристику подобной политике дает президент РФ В.В. Путин в послании Федеральному Собранию в декабре 2014 г. 2 В его ответах по вопросам драматургии современных процессов В.В. Путин акцентирует внимание на их особенностях. Во-первых, о политике ряда государств нередко вынужденно приходится говорить «не с их лидерами», а с «правителями» с американскими или другими зарубежными адресами. Во-вторых, Россия выступает за правду (ширится принятие своеобразного «российского правдизма», его поддержка в мире становится все активнее). Главные приоритеты находятся в русле утверждения «правды», понимания ее как справедливости 3 . Россия выступает как против искажения своего образа, так и фальшивости объяснений и преподнесения происходящих процессов, провоцируемых интересами политической однополярности. При этом Россия не намерена отгораживаться и отделяться, не позволит втянуть себя в вооруженные международные конфликты. Очевидно, что нынешний негативный тренд в мировых делах – это выбор не России.
В последнее время стали утверждаться две линии политических процессов, особо затрагивающих интересы России, – отчасти неожиданные и, по сути, отрицательные для цивилизационного развития. Это, во-первых, разделительная линия, проходящая по Украине, возникновение которой было спровоцировано Западом при активном участии США. Трансляция искривленных представлений (это существеннее, чем двойные стандарты) о добре и зле вошла в норму политики и действий США, в т.ч. на информационно захваченных территориях. При этом только США имеют доктринальные планы «молниеносного удара» – не доктрины обороны, как у называющих себя развитыми, цивилизованными стран, а именно «удара». Уточним генезис существа этих политических тенденций и процессов.
Началом всему служит развитие политического билингвизма, в рамках которого несамостоятельная власть переводит жизнедеятельность страны в русло процессов политической дивергенции1. Сейчас это относится к территории Украины, подконтрольной Киеву. Суть дрейфа – расхождение признаков, характерных для эволюции, в разные стороны. Дивергенция как индикатор опережения в движении цен («вверх – вниз») допускается в биржевых играх, др. сферах. Но политическая дивергенция, скорее всего, является следствием многих сбоев – от политического билингвизма с утратой мыслить национально и самостоятельно до сценариев политических игр, когда нарушается и может утрачиваться государственность.
Политический билингвизм и политическая дивергенция становятся прототипом «политического дилетантизма» с утратой коренных национальных признаков, ущемления национального сознания и т.п., а в целом – субъектности. То есть, это подталкивание государства доминирующей силой к уровню управляемой диаспоры (показательные примеры этого демонстрировались на пространстве Грузии, а ныне – в Украине и Молдове). На территории современной Украины эти трансформации опасны, особенно в западных районах. Исторически здесь часто менялась доминирующая национальная сила (литовцы, поляки, венгры и др . ). В нынешний период коренные устремления населения вследствие позиции правящих кругов киевской власти вновь идут в размен, испытываются прессом наступающей англоязычности: президент и председатель правительства способствуют продвижению «американизма» не только на деловую часть (три министра-иностранца и пр.), но и на широкую сферу отношений. Это может привести к эволюционированию раздвоенности сознания и форм действий у части населения. И не исключен дрейф значительной части населения к диглоссной оппозиции. Основной причиной подобных процессов является то, что власть становится марионеточной («посаженной рулить»), а состояние политической системы не отражает волю народа. Власти предержащие только хотят «потреблять по-американски», но далеко не мотивированы на воссоздание высокого потенциала страны (кроме военного, хотя страна – уже банкрот) 2 . Политические метания можно отнести к сиюминутной угоднической декларативной политике, и притом в той тональности, которую хотят слышать зарубежные хозяева.
Таким образом, политическая дивергенция – это политическое и одновременно культурное расхождение в разные стороны. Одна страта – это несамостоятельная власть, а другая – значительная часть населения. Суть расхождений заключается в понимании сути процессов и отношений как внутренних, так и внешних, в т.ч. с соседями, связанными языковым и традиционно-культурным содержанием отношений. (В Украине это связано с отношениями, укорененными в славянстве, а не только с вариантами фонем и звуков речи, как это определяется в лингвистике.) Вполне очевидно, что происходит расщепление целого на разнящиеся общности (киевская Украина и Малороссия; часть Молдавии, близкая к России, и «прору-мынская Молдавия», тяготеющая к Евросоюзу).
Форма политической дивергенции – это политический разворот, который затрагивает сущность государственности. Все другое зависит от уровней потенциала и жесткости применения силы в геополитике. Эти процессы характеризуются агрессией со стороны «ненародной власти».
Однозначно оценивать действия нынешних политических властей в Киеве, уже попавших в русло политической дивергенции, еще нельзя. Они обвиняют Россию и одновременно просят пролонгировать кредиты и долги, вооружая при этом армию «по-американски» и разрывая отношения с СНГ. В ноябре 2014 г.
П. Порошенко отозвал своего представителя из Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств. Новый кабинет Украины ликвидировал должность уполномоченного по вопросам сотрудничества с СНГ и ЕврАЗЭС, не ратифицировал договоренности стран СНГ, растоптав таким образом дело своих предшественников на уровне президентства. Заметим, что тот же фракционный «блок Петра Порошенко» в нынешней Верховной раде, по информации телеканала «Украина», «дискуссионно» относится к полному разрыву с СНГ. (По оценкам экспертов, доходы снизятся на 30–40% только от внешнеэкономической деятельности с Россией.) 1
Раздвоение происходит и по траектории тиражирования искривленной интерпретации событий нынешней властью в Киеве. Это тоже вопросы сознания, устройства мышления, понимания происходящих явлений, желания «воевать чужим контингентом». Например, помощь России юго-востоку Украины, включая военное консультирование, в конгрессе США представляется так, что именно это привело к гибели 4 тыс. жителей Малороссии. При этом финансирование военного переворота и прямое вмешательство в события в Киеве, поддержка профашистских группировок на западе Украины, поощрение военной агрессии Киева на юго-востоке не рассматриваются США как нарушение международного права и не обсуждаются на международном уровне 2 .
Что же касается России и наследия билингвизма в предшествующие эпохи (период СССР), то В.В. Путин в своих выступлениях и послании Федеральному Собранию РФ в декабре 2014 г. справедливо обращается к истории Крыма, историческим корням «россиян как славян», воспроизводя «геополитически и генетически» код россиян на основе «национально-государственной правоты» 3 . В свою очередь, в мире все чаще негативно оценивают действия США при насаждении ими «демократии по-американски». Сегодня это уже вызывает сарказм. Высокий антирейтинг в США в мире, и особенно их действий на Украине и в других регионах, массово называют «черной меткой».
Как же выстраиваются (должны выстраиваться) приоритеты государств, которые обретают формат политических решений? Прежде всего, это законы, двух- и многосторонние соглашения, которые до их принятия должны проводиться через дискуссионные сообщества специалистов и экспертов, процедуры политических «чисток» партий и других общественных формирований. Проблематика таких решений должна проходить через обсуждение и ратификацию в парламентах, согласование действий на международной арене. Но так ли обстоит дело в стране, диктующей миропорядок? Каковы тенденции и тренды, характеризующие сдерживание построения рационального порядка?
Размышляя над ответами на поставленные вопросы, уточним, что страны «золотого миллиарда» для поддержания своего благополучия (на их взгляд) четверть века назад приняли концепцию глобального управления, которая обрела изящное название «хорошее управление» (good governance). Из солидарности ближайшие сателлиты США, особенно партнеры по НАТО, все крупные публичные институты выдвигают эту модель как приоритет своих стратегий развития. Эта модель декларирует действительно идеальный (принимаемый за универсальный) императив политики, хотя реализация концепции «хорошего управления» далеко не безупречна [Понкин 2013]. Как видно из нынешних реалий, эта модель больше относится к эмоциональной характеристике и не обеспечивает оптимально справедливое управление повсеместно, определяющее именно цивилизационное развитие, а не получение сверхдоходов богатыми за счет не уменьшающейся нищеты прочих. В настоящее время наблюдаются тенденции снижения доли прироста среднего класса. Главная причина – монополизация однополярного управления и построе- ние его на принципах пирамиды, где на вершине находятся США и их сателлиты из «золотого миллиарда». На долю других выпадают двойные стандарты, двуличие в оценках и подходах, руководство одним принципом – выгодой только для США и соблюдением корпоративных интересов НАТО. И это при том, что в последние годы довольно широко и даже, можно сказать, безальтернативно в преподносится в качестве более совершенной другая модель – «новое управление». Ее парадигма чуть более концептуальна, т.к. в идеале отражает движение к организации некой системы. При последовательной адаптации к условиям страны она, безусловно, может быть избирательно принятой, чтобы совершенствовать системность подготовки и принятия высших политических решений, но не везде. В определенной мере это зависит от статуса и уровня деятельности парламента, технологий и практики парламентаризма в целом (в современных условиях считается, что важнейшие решения должны приниматься парламентскими учреждениями). Конечно, при этом важно учитывать реалии общей цивилизованности, способность и эффективность государственного и муниципального управления. Итак:
– значительно расширилась и продолжает расширяться предметно-объектная область публичного управления, появилась потребность в регулировании новых сегментов, каких как продукты, виноделие, спорт (из-за широкой номенклатуры игр, в т.ч. азартных) и т.п.;
– усложняется структура и само содержание управления (государственного, муниципального), т.к. власть и органы управления/самоуправления вынуждены постоянно расширять перечень своих управленческих услуг для населения;
– существенное усложняются как сферы экономики, так и объемы ее нормативноправового регулирования;
– усложняются национальные порядки, они по-разному трансформируются в международные порядки (просвещенному миру все очевиднее преподносятся явно преступные сценарии смены политических режимов, оказания мер экономического давления на страны, подстрекательства отдельных сил к раскачиванию ситуации в относительно стабильных обществах – пример Украины в дестабилизации отношений с Россией);
– происходит диверсификация отношений между уровнями управления и все более активное восприятие принципов субсидиарности, которые требуют гибкого сочетания стратегического и оперативного (текущего) управления, мониторинга общественным контролем характера присутствия власти в процессах управления 1 ;
– очевидны существенные изменения в системе социальных ценностей и общественных потребностей, когда на смену традиционным приемам управления приходят технологии электронного правительства (электронных муниципалитетов), а ряд функций администрирования со стороны органов власти и управления передаются саморегулируемым организациям, расширяются функции «третьего сектора» 2 [Электронный муниципалитет… 2008; На пути… 2011].
Делая промежуточный вывод, относящийся к деформациям управления, можно резюмировать, что функциональные границы между органами публичной власти, бизнесом и негосударственными организациями все больше пересекаются. Параллельно с наличием государственного права все чаще проявляются симптомы появления положений с нормативной регламентацией от неправовых систем, например, инспирированные решения, прикрывающиеся международным характером представительства и весьма условной коллегиальностью (Совет НАТО, Парламентская Ассамблея стран – членов НАТО и др.). Как к этому относиться, когда значительная часть общества (обществ) нуждается в достаточно четких оценках политики власти и результатов их политики? К сожалению, в структуре нынеш- них мировых процессов много политического волюнтаризма со стороны США, НАТО.
Рассмотрим тенденции, которые в последнее время проникают в сферу парламентаризма, оказывая в той или иной мере влияние на принятие высших политических решений. При этом уточним, что дефиниция «парламентаризм» относится к категории, характеризующей содержательное и ролевое участие выборных представительных органов в функционировании политической системы в государствах и принятых системах реализации политической власти. Однако в последнее время оно стало толковаться слишком расширенно. Парламентаризм как механизм стал упрощенно пониматься в основном как «инструмент развития демократии». При этом в современной западной политической науке понятие «парламентаризм» заметно реже упоминается и рассматривается больше в контексте характеристик функционирования «системы политической власти» применительно к упоминавшейся выше модели «глобального управления», хотя «глобальное управление» нужно рассматривать шире при рассмотрении вопросов мирового порядка [Борщ 2011: 29-31]. Было бы оправданным понимать «парламентаризм» скорее в рамках возможности подготовки или реализации «высших технологий правления», выработки и принятия «высших политических решений» для обеспечения технологий правления [Бакушев 2014: 158-160].
С другой стороны, недопустимо к содержательным компонентам парламентаризма относить лишь проявление парламентской практики либо рассматривать только отдельные организационные процедуры или технологии, относящиеся к элементам формирования или функционирования парламентов. Это важно подчеркнуть, т.к. есть попытки эти правила в новых условиях или изменить, или подогнать любыми средствами под некие «видимые» черты парламентаризма. Подобное можно наблюдать при рождении «новых демократий по-американски» (Афганистан, Северная Африка, Грузия, Украина). Для этого подкормленные «послушники» организуются в публичные группы радикалов, которые явочным протестным порядком свергают правительства в стране по причине «непохожести» на «демократию по-американски» либо во имя защиты «границ НАТО».
Однако современный парламентаризм в его научном понимании – это, прежде всего, системная политическая организация государств с учетом разграничений функций законодательных, исполнительных и судебных ветвей власти при полноправном положении парламента; особый тип государственного устройства верховной власти, где учреждается постоянно действующий избираемый населением орган, призванный принимать верховные политические решения в форме законов; это система правления, которую отличают специфические формы функционирования парламента как органа власти, принимающего верховные решения. Заметим, политическим условием установления современного уровня парламентаризма как системы правления является наличие стабильно функционирующей политической системы (как минимум двухпартийной).
Однако в современной жизни отмечается нарастание влияния форм протопарламентаризма; результат этого достаточно активно проявляется в реализуемых политических процессах. В межгосударственные отношения внедряется «мир различных обществ», которые не всегда оформляются в партии по классическому варианту, но стремятся их подменить. Возникающие разветвленные сети публичной политики, пытающиеся соединить интересы традиционных правительств государств и зарождающихся структур гражданских обществ, обременяют себя несвойственными функциями. Они, наряду с государством (национальное государство – лишь одна из многих форм политических сообществ), местными общинами или регионами (например, субъекты РФ, немецкие земли, штаты в некоторых государствах), хотят обладать политической идентичностью для вовлечения в политический процесс своих граждан. До определенного предела это хорошо. Но эти действия не должны подменять назначение и функционал тех легитимных органов, которые могут и должны принимать решения, касающиеся интересов большинства граждан, формы государственности страны.
Дискутируется мнение, что не следует догматизировать принципы терри- ториально-государственной демократии и что только они опосредуются партиями. Здесь важно помнить о том, что только через партийную политику невозможно заранее определить единственно верный путь движения к цивилизованному развитию. А транснациональные режимы и созданные ими институты следует рассматривать как пространства, еще далекие от функционирования полной демократии. Недопустимо искусственное привязывание партийных решений к внутреннему развитию отдельных стран и их влияние на функционирование наднационального Европейского парламента. В качестве примера можно привести решения европартий, которые не опираются на легитимность электората во всей Европе. Их легитимность в этом смысле не может быть правомерной с правовой точки зрения. Поэтому, несмотря на кажущуюся «похожесть», деятельность отдельных новых общественных формирований («обществ», «сетевых объединений») не является заменой функций парламентов.
Мнение ряда экспертов об очевидной тенденции депарламентаризации, т.е. снижения роли парламентов в принятии решений, не отвечает действительности, хотя и обнаруживается заметное влияние других тенденций, таких как «олигархизация» и «бюрократизация». Это выражается в дополнительном влиянии власти «невидимых сил» (усиливается значение «экспертократии», а также особых групп лоббистов при подготовке и процессуальном обсуждении проектов значимых решений). Через них может достигаться преимущественное значение частных интересов по отношению к идее стремления к общему благу, за что должны бороться в своих решениях парламентарии.
Не всегда полезная дискуссия о том, что деятельность современных парламентов может сводиться к чисто символическим политическим собраниям, в последнее время развертывается также в СМИ, особенно в электронных. Считается, что многие значимые процессы принятия решений перемещаются из «специализированных собраний» на «скрытые» и «непрозрачные» переговорные площадки. Роль парламента в таких случаях сводится лишь к «регистрации» или «ратификации» принимаемых решений, если они согласованы и фактически приняты в других местах. Это касается не только известных в мире политических клубов, например таких, как Богемский клуб (преимущественно для консервативной американской элиты), Бильдербергский клуб (неформальное собрание ведущих западных политиков, бизнесменов и влиятельных людей, обсуждающих мировые проблемы), но и новых интернет-сообществ, тематических клубных сетей.
И все же здесь «видимое» не может приниматься за «сущностное» парламентской деятельности. Подмена одного другим может привести к поверхностным представлениям о практике современного парламентаризма, который становится профессиональным. Это – с одной стороны. А с другой – очевидна медлительность в оценках конфликтных ситуаций в регионах мира, хотя в целом парламентская дипломатия становится активной и все более эффективной [Лихачев 2011: 297-301]. Но по отношению к конфликту на Украине многие межпарламентские объединения инертны до сих пор. Это можно адресовать и к старейшей парламентской организации – Межпарламентскому союзу. А активность наблюдается у тех, кого только по «похожести» относят к межпарламентским структурам. Но они не могут быть признаны полноценными парламентскими международными и наднациональными организациями (ассоциации военных союзов – НАТО, Западноевропейский союз, которые учредили свои «парламентские собрания»). Они сформированы как кооперативные переговорные системы и должны так работать. В них не предусмотрено трансграничное оппонирование решениям (через оппозицию, как в парламентах), т.к. основные решения принимает исполнительная власть.
Таким образом, переговорная демократия хотя и способна быстро реагировать на возникновение новых интересов и групп, предлагать специфические идеи, но ни она, ни ее институции не могут претендовать на принятие высших политических решений. В свою очередь, важно гарантировать реальное участие в политике граждан на принципах парламентаризма, обеспечивая обратную связь с народом через общественный контроль.
Разразившийся на территории Украины кризис ныне полярно делит мир на два мировоззренческих лагеря. «Правящий Запад», проявляя явно двойные стандарты, желает поддерживать и впредь свою гегемонию, т.е. контролировать управление территориями в мире. Но это положение временно и шатко. «Государства-реалисты», к которым можно отнести, помимо России, Китай, Индию, Бразилию и др., должны придерживаться своей классической идеологии, где важнейшим принципом является стремление к справедливости, и следовать парламентским формам подготовки и принятия высших политических решений. Это и будет демократия – волеизъявление народа и для народа.
И последнее. В связи с поляризацией отношений по вектору «Запад – Восток» в политике и на уровне принимаемых высших политических решений Россия имеет возможность активно развивать «восточный вектор». При этом не следует сворачивать наработанные отношения с Западом, в т.ч. с Евросоюзом, несмотря на принятые им санкции. Благоразумие постепенно придет и в Старый свет. Это отмечалось в недавней дискуссии, посвященной развитию российского законодательства и острым проблемам современности, проходившей в Госдуме в рамках «Открытой трибуны» 1 . Несмотря на то что из-за санкций в России произошло снижение объема иностранных инвестиций в 2 раза (с 47 млрд долл. США до 23,7 млрд дол. США), возможности расширения сотрудничества существуют 2 . Для этого существенно важно изменить политические реалии – урегулировать кризис на Украине, восстановить (без прогибания) отношения с ПАСЕ и др.
Будем верить, питать надежду, что поле расчистится и будут прорабатываться и приниматься нужные и взаимовыгодные решения на высших политических уровнях.
Список литературы Проблема принятия высших политических решений: глобальное управление и парламентаризм
- Бакушев В.В. 2014. Проблемы легитимации национальных и наднациональных политических решений в парламентах. -Государственное и муниципальное управление: ученые записки. ЮРИУ РАНХиГС. № 4. С. 158-160.
- Борщ А.А. 2011. Политическая борьба в современных условиях: монография. М.: Изд-во РАГС. 191 с.
- Лихачев В.Н. 2011. Парламентарии должны принимать более активное участие в политическом переустройстве Европы. -Россия и международное сообщество. М.: Вече. С. 297-301.
- На пути к информационному обществу в России: организация госуслуг в электронной форме: учебно-методическое пособие (под общ. ред. В.В. Бакушева). 2011. М.: ИГ «Граница». 366 с.
- Понкин И. 2013. О понятии и концепте «хорошего управления» («Good Governance»). -Государственная служба. № 4. С. 39-42.
- Электронный муниципалитет: на пути развития (под ред. В.В. Бакушева, А.Л. Хазина). 2008. М.: Индрик. 256 с.
- Бакушев В.В. 2014. Проблемы легитимации национальных и наднациональных политических решений в парламентах. -Государственное и муниципальное управление: ученые записки. ЮРИУ РАНХиГС. № 4. С. 158-160.
- Борщ А.А. 2011. Политическая борьба в современных условиях: монография. М.: Изд-во РАГС. 191 с.
- Лихачев В.Н. 2011. Парламентарии должны принимать более активное участие в политическом переустройстве Европы. -Россия и международное сообщество. М.: Вече. С. 297-301.
- На пути к информационному обществу в России: организация госуслуг в электронной форме: учебно-методическое пособие (под общ. ред. В.В. Бакушева). 2011. М.: ИГ «Граница». 366 с.
- Понкин И. 2013. О понятии и концепте «хорошего управления» («Good Governance»). -Государственная служба. № 4. С. 39-42.
- Электронный муниципалитет: на пути развития (под ред. В.В. Бакушева, А.Л. Хазина). 2008. М.: Индрик. 256 с.