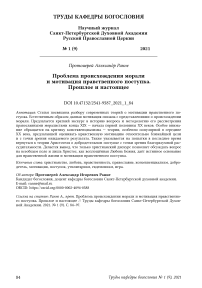Проблема происхождения морали и мотивация нравственного поступка. Прошлое и настоящее
Автор: Ранне Александр Игоревич
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 1 (9), 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена разбору современных теорий о мотивации нравственного поступка. Естественным образом данная мотивация связана с представлениями о происхождении морали. Предлагается краткий экскурс в историю вопроса и методологию его рассмотрения православными моралистами конца XIX - начала первой половины XX веков. Особое внимание обращается на критику консеквенциализма - теории, особенно популярной в середине XX века, предлагавшей оценивать нравственную мотивацию относительно ближайшей цели и с точки зрения ожидаемого результата. Также указывается на попытки в последнее время вернуться к теории Аристотеля о добродетельном поступке с точки зрения благоразумной рассудительности. Делается вывод, что только христианский дискурс позволяет обсуждать вопрос на всеобщем поле и лишь Христос, как воплощённая Любовь Божия, даёт истинное основание для нравственной жизни и мотивации нравственного поступка.
Христианство, любовь, нравственность, православие, консеквенциализм, добродетель, мотивация, поступок, утилитаризм, евдемонизм, игра
Короткий адрес: https://sciup.org/140294879
IDR: 140294879 | DOI: 10.47132/2541-9587_2021_1_84
Текст научной статьи Проблема происхождения морали и мотивация нравственного поступка. Прошлое и настоящее
About the author: Archpriest Alexander Igorevich Ranne
Candidate of ^eology, Associate Professor at the Department of ^eology at St. Petersburg ^eological Academy.
Article link: Ranne A., archpriest. ^e Problem of the Origin of Morality and the Motivation of Moral Action: Past and Present. Proceedings of the Department of ^eology of the Saint Petersburg ^eological Academy, 2021, no. 1 (9), pp. 84–97.
Для христианского самосознания проблемы происхождения морали не существует. Благой Бог является Творцом всего, что существует, и Его творение заканчивается принципиальным одобрением всего того, что создано: «И вот, хорошо весьма» (Быт 1:31). Проблема начинается с появления на свет Божий разумного и свободного существа, созданного по образу Божию и претендующего на полноту личностного существования. Главный соблазн этого венца Божьего творения состоял и состоит в выборе пути реализации этого своего предназначения: реализовать своё личностное бытие, полноту своего существования в Боге, Который только и обладает этой полнотой, или, соблазнившись своим возможным богоподобием, найти эту полноту на путях собственного развития, соблазнившись дьявольским искушением: «Будете, как боги, знающие добро и зло» (Быт 3:5). Такое опытное познание того, что есть добро и зло, даёт человеку право самому определять цели и средства их достижения. И это касается как истории индивидуума, так и человеческой истории в целом.
Все древнейшие письменные культуры (такие как Древний Египет и Шумеры) донесли до нас сведения о чётком понимании нравственных требований, обоснованных божественными санкциями. Но, в то же самое время, древние люди хорошо знали, что слишком часто эти требования входят в конфликт с их внутренними желаниями, намерениями и стремлениями. И эта действительность уже сама по себе порождает проблему: если закон требует от меня противоположного тому, что я желаю и к чему стремлюсь — откуда он? Если он с небес («мораль, как и река Нил, начинается на небесах», — говорили древние египтяне) или от богов (древние шумеры верили, что это богиня Инанна выпросила у бога мудрости Энки сто Ме, и корабль, нагруженный законами, пустился в плавание в рамках исторической перспективы), то почему он противоречит часто самым главным человеческим ожиданиям? Отсюда и рождается понимание главной проблемы: неразрешимого конфликта индивидуального и общественного блага. Безусловная, с точки зрения Платона, добродетельность Сократа и общественное благо, освящённое незыблемостью религиозной традиции, выявили трагическое противоречие, над которым афинский философ мучился до конца своей жизни. В конце концов, индивидуальная добродетель была всецело им принесена в жертву общественному благу, ибо и Сократ погиб, подчинившись законам.
В эпоху Просвещения Жан-Жак Руссо выносит на всеобщее обсуждение формулу «общественного договора». Впрочем, она была известна людям не только со времён Платона и Аристотеля. Еврейский народ заключил договор с Богом о формах общественного бытия и поведенческих стереотипов, которые так или иначе были известны людям и раньше, но в данном Законодательстве получали Божественную санкцию. Более того, Сам Творец мира становился не только гарантом исполнения норм закона, но и его творческим участником. Однако во времена Жан-Жака Руссо идея природного совершенства человека породила также идею возможности происхождения общественного договора из опыта самой общности (социума). Отсюда и очень популярная современная формула понимания, что такое мораль — «мораль есть форма разрешения общественных конфликтов». На самом деле, строго говоря, 86 Труды кафедры богословия № 1 (9), 2021
закон есть форма разрешения общественных конфликтов, а мораль — то состояние культуры, которая формирует содержание умов, из чего, собственно, и выкристаллизовываются законодательные формулы и понимание должного. Таким образом, вопрос о происхождении морали возвращается на круги свои, потому что, по совершенно правильному замечанию Гертруды Элизабет Энском, «… моральные понятия не выводимы из общественных законов, договоров, традиций, обычаев, поскольку последние сами нуждаются в моральном обосновании»1.
Всякая культура вырастает из осмысленного взращивания того, что считается ценным и становится в той или иной степени основным содержанием жизни как отдельного человека, так и общества в целом.
И вот, опять мы приходим к вопросу о том, что для человека является ценным и что он полагает благом для себя. В этом контексте мы отдаём себе отчёт в том, что понятия ценность и благо очень близки, и многими рассматриваются как синонимы. Но с точки зрения христианского сознания это всё же не совсем синонимы. Достаточно вспомнить ответ Христа богатому юноше: «Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог!» (Мф 19:17). Недопустимо переносить на Абсолют человеческие представления об иерархии ценностей.
С другой же стороны, не стоит забывать иное высказывание Христа: «Не читали ли вы: вы боги, и сыны Всевышнего — все вы» (Пс 81:6; Ин 10:34). Нелишне в этом контексте вспомнить известное высказывание Аристотеля: «Тот, кто не способен вступить в общение или, считая себя существом самодовлеющим, не чувствует потребности ни в чём, уже не составляет элемента государства, становясь либо животным, либо божеством»2. Животные живут в рамках естественного неосознаваемого ими закона, а боги не нуждаются в законодательном самоограничении. Не слышится ли здесь некоторая провокация к законодательному творчеству, не подтверждаемому Божественной санкцией?
Речь здесь, безусловно, идёт о другом, но в контексте современной логики вопрос о моральном законе внутри нас обретает особое значение. Практически все русские православные моралисты, в той или иной степени освятив вопрос о мотивации нравственного поступка, переходили к анализу представлений И. Канта о нравственном законе.
Возьмём ли мы, как пример, первый том книги протоиерея Николая Стел-лецкого «Опыт нравственного православного богословия в апологетическом освящении», который впервые увидел свет в 1914 году, или фундаментальный труд по этике Н. О. Лосского «Условия абсолютного добра», который вышел в 1944 году, структура рассмотрения проблемы происхождения нравственного закона и мотивации нравственного поступка будет примерно одна. Кроме того, их объединяет очень уважительное и внимательное отношение к известнейшему в первой половине XX-го столетия католическому моралисту Виктору Катрейну.
Будучи священником-иезуитом, Катрейн занимался не только проблемами философской морали, но и проблемами социальной этики, призывая католическое сообщество возглавить реформы в пользу трудящегося населения. С другой же стороны, он подвергал критике идеологию современного ему социализма. При этом Катрейн всегда оставался убеждённым сторонником сохранения частной собственности, что было несвойственно иезуитам, которые имели опыт построения социализма в Латинской Америке. В какой-то степени его можно считать последователем Ламенне, из-за интереса к которому Ф. М. Достоевский получил десять лет каторги.
Если Н. О. Лосский, занимаясь проблемой мотивации нравственного поступка, тщательнейшим образом исследует гедонизм, эвдемонизм и утилитаризм, то протоиерей Николай Стеллецкий на гедонизм не обращает никакого внимания, считая его частным случаем эвдемонизма. Хотя следует отметить, что и современный российский моралист Р. Г. Апресян считает мотив стремления к счастью «лишь эвфемизмом этики наслаждения»3. Аристипп и его последователи утверждали, что наслаждение и связанная с ним радость не могут быть постоянными. Это вне возможностей человека, поэтому нужно стремиться к наибольшему количеству и качеству удовольствий. Однако уже Аристотель, развивая философский опыт Сократа и Платона и выстраивая свою иерархию добродетелей, говорил, что истинное наслаждение философ получает от созерцания истины, а находиться в этом состоянии можно сколь угодно долго. Идея эта была обсуждаема и Эпикуром, и стоиками в разных вариантах, но важно другое: основной целью является удовольствие или созерцание истины? Садист, эротоман или эстет в равной мере получают удовольствие. В этом контексте протоиерей Николай Стеллецкий приводит цитату из сочинения И. Канта «Критика практического разума»: «Если направление воли человека должно решаться чувством приятного и неприятного, то для человека всё равно, откуда бы ни происходило это приятное и неприятное… (Kant I. Kritik der praktischen Vernun^, 1828. S. 35)»4. В данном случае цель оправдывает любые средства её достижения.
Однако чувство удовлетворения, удовольствия или даже наслаждение от удовольствия — это всего лишь симптом достижения цели. Само по себе удовольствие не есть последняя цель, но как показатель успешного завершения стремления, оно, безусловно, не может иметь обязательно отрицательного содержания. «Чувство удовольствия, — пишет по этому поводу Н. О. Лосский, — при осуществлении цели есть тоже положительная ценность: переживание его повышает ценность достижения объективного содержания, но всё же ценность его есть нечто второстепенное»5. Цель жизни — радость, утверждал Аристипп, но ведь и Христос после Своего Воскресения обращается к жёнам-мироносицам со словами: «Радуйтесь, не бойтесь…». В романе
Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» Алёша, уснувший от усталости в келье перед гробом старца Зосимы, в момент чтения отцом Паисием евангельского отрывка о чуде в Кане Галилейской слышит слова старца: «Радость человеческую посетил Господь…». Однако чувство радости для человека достижимо и по завершении успешного грабежа, и под воздействием на организм веселящего газа, наркотиков и т. д.
Анализируя данную проблему, протоиерей Николай Стеллецкий подробно разбирает нравственное учение Иеремии Бентама, называя его ярко выраженным утилитаристом. Но для Бентама целью нравственного поступка всё-таки является удовольствие, а не польза, как некая ступень, позволяющая достигнуть цели. Хотя отец Николай прав в своём утверждении, что с точки зрения утилитариста хорошо то, что полезно. Здесь полезное и то, что приносит удовольствие, рассматриваются как синонимы. Бентам — человек уже XIX века, с опытом христианской культуры. Он понимает, что стремление к удовольствию в основе своей есть чувство эгоистическое, а Христос требует от человека нечто совершенно противоположное: «Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего» (Лк 6:35). Удовлетворение от совершенного нравственного поступка во имя общественного блага совсем не всегда приносит награды и удовольствия, зачастую совершённое добро приносит незаслуженные страдания, а загробное воздаяние для многих является или призрачным, или переживается как форма оплаты. У Бентама нравственно-обязательное служение общему благу, которое и должно приносить человеку высшее удовлетворение, ограничивается мерой личной выгоды человека. В этом отношении Бентам остаётся в рамках эгоистического утилитаризма эллинистической философии — «ничего в излишестве».
От критического рассмотрения утилитаризма И. Бентама протоиерей Николай Стеллецкий6 переходит к внимательному изучению представлений о мотивациях нравственного поступка Джоном Стюартом Миллем.
Следует отметить, что такой путь рассмотрения проблемы совершали почти все русские православные моралисты. Статьи А. Бронзова, Павла Левитова, Д. П. Миртова, протоиерея Е. Аквилонова, И. Попова, Ф. Ф. Гусева, М. М. Тареева, протоиерея Буткевича, профессора Лопатина, С. Говорова, С. Глаголева, профессора Н. Н. Глубоковского, М. А. Олесницкого и многих других авторов так или иначе отзывались на современную проблематику, живо реагировали на появлявшиеся новомодные теории. В журналах «Вера и разум» и «Христианское чтение» появлялись публикации на самые злободневные вопросы общественной жизни. Например, П. Левитов опубликовал в журнале «Христианское чтение» любопытную статью «Христианский брак в области половых отношений». Очень важным было также появление лекций протопресвитера Иоанна Янышева, которые привнесли в изучение христианской нравственности интерес к современным по тому времени достижениям психологии. В начале XX века появилась интереснейшая статья архимандрита Сергия (Страгородского), будущего Святейшего Патриарха, в которой подававший большие надежды богослов рассуждал о нравственных вопросах, приводя в пример образы и житейские проблемы, взятые исключительно из художественной литературы. И это было не случайно, так как в России уже хорошо знали работы немецкого психолога Вундта, который сформулировал парадоксальную на первый взгляд проблему: «Можно ли доить нарисованную корову?» Нарисованную, конечно, нельзя, но ту, с которой рисовали, безусловно, можно. Литературные образы есть всегда отпечаток реальной ситуации, переживание внутренних конфликтов, близких и понятных читателям.
Джон Стюарт Милль (1876+) был учеником И. Бентама, во второй период своей жизни увлекался социальными взглядами Сен-Симона. Исправляя утилитаризм Бентама, Милль старался приблизиться к т. н. морали бескорыстных чувств, решить вопрос о критериях предпочтения одних удовольствий другим. Не количество удовольствий, а, прежде всего, их качество и одобрение всеми играет, по его мнению, определяющую роль. Но, как верно отмечает протоиерей Николай Стеллецкий, «… при отсутствии внутреннего критерия внешний едва ли может привести всех людей к согласию в определении нравственной ценности удовольствий»7. Джон Стюарт Милль отличается от своего учителя ещё и тем, что вслед за сенсимонистами последней целью нравственного поведения он считает не столько личное счастье, сколько счастье всех. Правда, путём к общечеловеческому благоденствию для Милля всё же является стремление к личному счастью. Однако и здесь возникает проблема, над которой так напряжённо размышлял ещё Платон — как быть, когда личное счастье вступает в противоречие с общественными интересами? Отец Николай приводит в пример католического святого Криспина, который воровал кожу у богатых и шил обувь бедным. В этом контексте он делает чрезвычайно важный вывод: «Стремление к общему благу может иметь нравственное значение лишь в том случае, когда оно вытекает из высших, идеальных побуждений, без всякого отношения к соображениям пользы»8.
Джон Стюарт Милль был агностиком. Его стремление найти и обосновать нравственную, независимую от внешней для человека воли мотивацию понятно, но безосновательно. Будучи деятелем сугубо социальным, человек не мыслим вне различного рода волевых воздействий со стороны. Кроме того, он всегда находится в состоянии недостаточного знания. Желание гармонизации волевых устремлений возможно только или ради собственного блага, или ради осмысленного некоего внешнего идеала, восприятие которого возможно исключительно благодаря внутреннему соответствию с ним. «По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием» (Рим 7:22), — восклицает апостол Павел. Да и может ли только стремление к общему благу ради собственной далёкой выгоды быть достаточной мотивацией для нравственного поступка?
Автономная мораль И. Канта как «бытие из себя самого», выражаясь словами Гегеля, конечно, возводит человека на новую ступень самосознания, но недостаточно принимает во внимание кардинальную испорченность человеческой природы. Увидеть под одеждой и милым выражением лица человеческие страсти доступно было не только испанскому художнику Ф. Гойя, но и многим духовно-одарённым мыслителям. Только по-настоящему святые умели сострадать мучимому собственными страстями человеку. Основным законом нравственности, по И. Канту, является категорический императив. Общеобязательный принцип человеческой жизни — «поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом»9. В этом смысле моральность основывается на свободе, альтруизме и долженствовании; свободное следование осуществления потребности в любви, исходя из чувства долга.
Однако действительно ли это чувство долга осуществления себя в любви к другому есть внутреннее содержание человека и его стремлений? В кантовской максиме чувствуется некая подспудная провокация ницшеанства и атеистического экзистенциализма Ж.-П. Сартра. Протоиерей Николай Стеллецкий, безусловно, прав, когда говорит: «Взгляд Канта на нравственную автономию содержит в себе и долю правды, но искажённую до неузнаваемости»10. Бытие человека в соответствии с нравственным миропорядком действительно является делом свободного выбора самого человека, но кажущаяся независимость человека от естественного закона, о котором пишет в Послании к римлянам апостол Павел, гибельна не только для него самого, но и для миропорядка в целом. Кроме того, Царствие Божие не может мыслиться только как награда за добродетель и веру. Оно есть, прежде всего, бытие состоявшегося выбора. А для того, чтобы этот выбор был осознанно сделан, необходимо понимание, что есть добро и зло. Человек мог просто поверить в абсолютную Благость своего Творца, а мог пойти по пути опытного осознания полезности для себя. Последнее и составляет, собственно, содержание человеческой истории. И как ереси (ошибки) в представлениях о Боге в какой-то степени являются доказательствами от противного догматической Истины, так и многочисленные тупиковые теории о мотивации нравственных поступков постоянно возвращают человечество к Богооткровенной Истине о любви к Богу и ближнему.
Для поисков обоснования нравственной мотивации, независимой от религиозного фактора, в XIX–XX веках огромное значение имела научная гипотеза о естественном развитии животного мира и человека, сформулированная Ч. Дарвином. В православной академической литературе этому вопросу было уделено достаточно внимания, и в рамках данной статьи нет необходимости останавливаться на этом подробно. Но все попытки вывести непротиворечивую теорию мотивации нравственных поступков, обосновывая её на теории естественной эволюции человека из природной среды, остаются и противоречивыми, и незаконченными. Более того, выросшие из дарвинизма расизм, неофрейдизм, марксистский большевизм, сталинизм, фашизм, национализм, современные крайние формы либерализма были и остаются крайне разрушительными формами общественного сознания. В дореволюционную эпоху в различных журналах было опубликовано достаточно много статей на эту тему. В качестве примера можно привести следующие публикации: И. В. Попов «Критика эволюционной нравственности», С. Говоров «Эволюционная теория в применении к науке о нравственности», проф. Лопатин «Критика эмпирических начал нравственности»… Этого же вопроса, как известно, касались почти все представители русской религиозной философии конца XIX — начала XX веков.
Как совершенно справедливо утверждает А. А. Гусейнов, «… философия не единственная и даже не решающая духовная сила величайших общественных преобразований»11. В выявлении истинной мотивации нравственного поступка огромное значение имеют религия и правосознание. Правда, к великому сожалению, в эпоху перемен именно нравственное чувство и требования положительного (сформулированного, записанного и всеми принятого) закона выталкиваются повреждённым общественным сознанием на периферию бытия индивидуума. Разнузданность страстей всегда склоняет человека к поверхностным умозаключениям. Нравственная философия, обосновывающая свои выводы в контексте религиозного сознания и в рамках развивающейся юриспруденции, хоть и не является уделом широких кругов населения, но формирует культуру общественного сознания. И здесь главным обстоятельством является необходимое соответствие внутренних переживаний индивидуума общественному правосознанию.
Вполне справедливым является утверждение, что в жизни личности абсолютная нравственность обнаруживает себя в качестве неумолимой иррациональной силы. Но нет никаких оснований выводить эту силу из сублимации озлобленной зависти к сильным мира сего, которая якобы способна сформировать новую систему ценностей или пытаться обосновать её знаниями современной генетики. Потому что гены агрессивности или альтруизма, выявляющие себя в сложных комбинациях психологического характера, сами по себе не несут нравственную окраску, а формируют соответствующие качества индивида в контексте соприкосновения с воздействующей культурой.
В современных научных публикациях, посвящённых вопросам нравственной мотивации, всё чаще появляются теории, предполагающие разделение на учение о благе и учение о добродетели, где понятия благо, ценность и цель, в общем-то, несут одну и ту же смысловую нагрузку. Но цель может рассматриваться как абсолютная, и тогда она должна быть бесспорной и удовлетворяющей всех. Или же она может быть ближайшей, тогда её формулирование будет определяться или целью абсолютной, или традицией, или неуправляемыми страстями. Возникает вопрос о выборе средств достижения цели. Н. Макиавелли считал, что великая цель оправдывает средства. Именно поэтому, по мнению В. И. Ленина и «любимца партии» Н. И. Бухарина, нравственно всё, что ведёт к победе мировой революции. Большинство же моралистов Ордена иезуитов всегда придерживались точки зрения, что цель определяет средства её достижения. Логично, конечно, считать, что царство любви достигается любовью, но любящий зачастую вынужден применять меч для защиты любимого. Понятно, что защита должна быть пропорциональна угрозе, но также понятно, что тот, от кого эта угроза исходит, тоже имеет право быть любимым и заслуживает сострадание хотя бы уже потому, что является источником угрозы. Из этого следует, что выбор средств для достижения благой цели — вопрос довольно сложный, не укладывающийся в прокрустово ложе простых формулировок.
В рамках современной этической теории консеквенциализма вообще не ставится задача выявления главной цели и формулирования нравственных критериев. По утверждению Энском, здесь «… само действие предстаёт морально нейтральным, а моральную значимость обретают лишь его последствия, причём не все, а предвидимые»12. Однако, сильно обобщая, можно сказать, что большевики в России пришли к власти, используя помощь врагов, и у них это получилось, при этом власовцы тоже пытались использовать помощь врагов, но захватить власть в Советской России у них не получилось. Следует ли, исходя из этого сравнения, считать, что определение моральности действий зависит от успешного достижения цели? Ведь намерения и тех и других, как им, вероятно, казалось, были благими.
Во многом справедливо утверждение, что судить о людях следует по их поступкам, но также нельзя упускать из виду и те обстоятельства, которые сопутствовали выбору средств и целей.
Поэтому Энском утверждала, что консеквенциализм приводит к деградации этики и, в свою очередь, пыталась противопоставить ему этику добродетели аристотелевского образца.
С другой стороны, Р. Хардин в своей статье «Пределы разума в моральной теории», пытаясь спасти этику утилитаризма, предлагает разработать новую теорию игр для обучения извлечения пользы не только для себя, но и для всех.
По его мнению, «чтобы построить хорошую консеквенциалистскую теорию морали, требуется дальнейшая разработка теории игр, базирующейся на разных теориях ценностей. В частности, нужна такая теория игр, которая опирается на порядковую (иерархическую) полезность, с межличностными сопоставлениями или без них»13. Понимание морали как игры личных предпочтений, по правилам которой необходимо соблюдать границы интересов других людей, очень распространено в современном мире. Но следует помнить, что забота о благе других вовсе не составляет главную цель для большинства людей14.
Наверное, когда-нибудь в будущем разработку такой теории игр поручат искусственному интеллекту. В заключение своей статьи Р. Хардин очень сожалеет, что у современного общества нет возможности «произвольно вводить новые социальные регламентации». Если бы это было возможно, пишет он, «мы предложили бы что-то получше тех норм и правил, что фактически существуют»15. Увы, но следует заметить, что процесс уже пошёл, не дождавшись появления искусственного интеллекта…
С точки зрения О. В. Артемьевой, «… этика добродетели развивается как критика деонтологических и консеквенциалистских концепций…»16. В основе этики добродетели лежат положения, разработанные ещё Аристотелем, который продолжал логику рассуждений Сократа и Платона о том, что добродетель есть знание и что мудрец, знающий истинный путь, не пойдёт по пути ложному.
Аристотель является классическим представителем эвдемонизма. По известному определению из «Никомаховой этики», добродетель есть сознательно избираемый склад — не клад, как нечто законченное и статичное, а именно склад, где постоянно идёт процесс наполнения и обновления — души, осознанно создаваемый разумным человеком. Распространённое в Греции учение об умеренности привело Аристотеля к учению о добродетели как о середине между двумя крайностями. Естественно, средством для определения этой золотой середины является «разумное суждение» (phronimos). Краеугольным же камнем человеческой добродетели является характер, выработанный волевыми усилиями «сообразительного человека».
В рамках христианской культуры идеальным образом, поведенческим стереотипом во всём является образ Иисуса Христа, т. е. наш предельный стандарт — не в системе даже моральных универсалий, а в Личности Богочеловека и святых, которые отражают в своей жизни Его совершенство. По мнению блаженного Августина, всякая истинная добродетель своим источником имеет любовь к Богу, а её практическим выражением является следование за Христом. Потому и Фома Аквинат, христианизируя, по выражению В. К. Шохина17, Аристотеля, всё же в основу христианских добродетелей полагает веру, надежду и любовь — те внутренние состояния человеческой души, которые определяют устремления человека к вечности. Современные западные католические моралисты, такие как Энски или Макинтайр, пытались понять добродетель как свойство внутренней жизни человека, которое помогает выстроить всю жизнь как последовательное стремление к высшей цели. Но этика добродетели, лишённая религиозного фундамента, не может предложить чёткие критерии нравственных поступков.
О. В. Артемьева в статье, посвящённой 70-летию А. А. Гусейнова, исследуя этические взгляды Макинтайра, пишет: «Добродетельность как качественная определенность человеческого характера оказывается в значительной мере результатом счастливого стечения обстоятельств»18.
Здесь, однако, нет ничего нового. Протоиерей Николай Стеллецкий, рассуждая по поводу влияния дарвинизма на проблему происхождения морали, отмечал: «Нравственность по учению эволюционистов… представляет из себя явление более или менее случайное»19.
Согласно Макки, происхождение моральных обязательств не имеет удовлетворительного объяснения, а значит, и этические ценности не имеют никакого практического смысла. Как известно, Джон Макки — последовательный атеист. Вряд ли его можно назвать авторитетным философом20. В своё время Макки восторженно приветствовал работу Р. Доккинза «Эгоистический ген». По его мнению, существование зла делает веру во Всемогущего, Всеведущего и Всеблагого Бога неразумной. Вряд ли эту мысль можно считать оригинальной. Так или иначе, она присутствовала в умах ещё со времён Эпикура. Собственно говоря, Джон Макки её у Эпикура и позаимствовал.
Современные попытки создать некий синтез на основе этики добродетели с привлечением соответствующих современным стремлениям положений из этики пользы и этики долженствования вряд ли могут иметь успех, потому что игнорируется главный вопрос о происхождении универсальных оснований нравственного поступка. Тем более, что, по мнению В. К. Шохина, «этика добродетели… может считаться лишь дополнением к утилитаристской и де-онтологической этике»21.
Таким образом, если бытие Бога отрицается, а описание реальности исчерпывается естественными законами, то всякие разговоры о нравственности теряют смысл. Случайность не может быть абсолютной. Случиться может только то, что может случиться (т. н. принцип контингентности). Поэтому даже в этом случае остаётся вопрос: кто автор этой игры в случайность? Самое страшное, что может случиться в теперь уже сравнительно недалёком будущем — это война искусственных интеллектов, запрограммированных в контексте национальных культур…
Было бы большой ошибкой в рамках этих размышлений не упомянуть теорию «Божественной мотивации» современной американской католической исследовательницы вопросов этики и эпистемологии Линды Загзебски. Смысл этой теории заключается в обосновании центральной роли любви в христианской этике. «Если самоотверженная Божественная любовь, — пишет Линда Загзебски, — или кеносис Бога (см.: Флп 2:6–11) является наиболее заметной мотивацией Бога, и если человеческая добродетель состоит в подражании Богу, то акцент христианства на любви к ближнему ясно обосновывается в рамках данной концепции»22.
Милосердие, обоснованное нравственным чувством, рождающемся в человеке из интуиции Совершенного, нельзя запрограммировать.
Блаженный Августин, в рамках сократовской традиции и Благой Вести о Царствии Небесном, которое рождается и вырастает внутри человека как посеянное семя, предлагал искать экзистенциальные ответы на путях глубокого самоанализа. Ибо, если человек создан по образу Божию, то в нём самом и нужно искать окно в вечность, разгребая заросли человеческих страстей.
На Востоке же святые Григорий Нисский, Григорий Богослов, Максим Исповедник, очарованные духовным опытом великих подвижников пустыни, в большей степени были склонны всматриваться в Небеса. Откровение о Боге, которое Церковь получила от Христа и во Христе, для них продолжало сходить с Небес в ожидании Горнего Иерусалима.
Это во многом, как нам представляется, и предопределило особенности духовной жизни как на Западе, так и на Востоке. В суете человеческой истории рационализм, скептицизм, агностицизм, излишний прагматизм, одурманенность страстями и любопытство в запретном увели человеческую культуру от Небес и поиска совершенства во Христе в самом себе к развитию без смысла.
Милосердие как отражение в человеке Божественного совершенства заменилось идеей пользы, так и не ответив на вопрос — а в чём же польза? Современный мир под воздействием современных технологий как бы разваливается и превращается в некоторую принципиальную разобщённость. И это происходит несмотря на всё более, казалось бы, совершенные средства связи. Происходит это потому, что умаляется главная сила, связывающая людей — любовь. В статье «Нормативные модели моральной рациональности» Р. Г. Апресян отмечает: «Коль скоро нравственность понимается как путь преодоления обособленности, разобщённости между людьми, заповедь о любви к врагам действительно является первичной, ибо враждебность, ненависть являются наиболее крайними выражениями обособленности и разобщённости»23.
Проблема соотношения индивидуальной добродетели и общего блага также осталась без ответа. Только во Христе человек обретает полноту, не потеряв своей индивидуальности. С точки зрения христианского мировоззрения, в основе мотивации нравственного поступка лежит интуиция сопричастности с Высшей Волей Бога, Который есть Любовь. Эта интуиция затемнена повреждённостью человеческой природы, рабской порабощённостью различного рода страстями и вытекающими из этого ошибочными идеологиями и мировоззрениями. И в человеке, и в окружающей его культуре в целом взращивается не пшеница, а плевелы, подлежащие огню, поскольку создаваемое не сообразно Вечности. Николай Бердяев определял мораль как творчество Высшей Правды и Высшего Бытия. Однако нужно помнить предельно точное высказывание Христа: «Без Меня не можете творить ничего!» (Ин 15:4–6). Поскольку Христос есть воплощённая Любовь, это означает, что без любви нельзя ничего создать навсегда, для вечности.
Закон нужен, чтобы научиться любить, но чтобы любить — закон не нужен. После Христа закон не нужен, потому что Христос уже научил любви. Закон нужен тем, кто без Христа. Чтобы творить «из ничего» — закон не нужен. Закон нужен ремесленнику, который создаёт что-либо из готового материала по уже существующему шаблону, по правилам. Нельзя любить, как Христос. Любить нужно со Христом и во Христе. Любовь и есть высшее творчество «из ничего».
А. А. Гусейнов в статье «Обоснование морали как проблема» высказал соображение, что «… в современном мире углубляется конфликт между объективной нравственностью, которая выступает как соответствующая организация правового пространства, и субъективной нравственностью, которая выступает как определённое состояние мотивов, между этикой правил и этикой целей»24.
Этот конфликт, пусть и не всегда в ясно сформулированном виде, существует и развивается с очень давних пор. Во всяком случае, он стал для всех очевидным, когда в конце XIX века в Англии возникла идея оставить христианскую мораль, убрав из неё Бога. В результате получилось безосновное чудовище, рождающее из себя угрозы для существования культуры, освящённой вечными смыслами.
Таким образом, переживания красоты сотворённого Богом мира, ответственности за сохранение его целостности и вечности во Христе, с нашей точки зрения, должны лежать не только в основе современных педагогических систем, но и быть основными идеями осмысленного созидания культуры. Только такой внутренний мир человека, освящённый светом Воскресения Христова, и может рождать истинную мотивацию нравственного поступка.
Список литературы Проблема происхождения морали и мотивация нравственного поступка. Прошлое и настоящее
- Апресян Р.Г. Нормативные модели моральной рациональности // Мораль и рациональность. М., 1995. С. 94-118.
- Аристотель. Политика // Его же. Собрание сочинений: в 4-х т. Т. 4. М.: Мысль, 1983. С. 375-644.
- Артемьева О. В. Теоретические основания этики добродетели // Философия и этика. Сборник научных трудов к 70-летию академика РАН А. А. Гусейнова. М., 2009. С. 433-445
- Артемьева О.В. У истоков современной этики добродетели // Этическая мысль. М.:, 2005. Вып. 6. С. 163-181.
- Гусейнов А. А. Обоснование морали как проблема // Мораль и рациональность. М., 1995. С. 48-63.
- Кант И. Критика практического разума // Его же. Сочинения: в 6 т. Т.4. Ч.1. М.: Мысль, 1965. С. 311-501.
- Кант И. Основы метафизики нравственности // Его же. Сочинения: в 6 т. Т. 4. Ч. 1. М.: Мысль, 1965. С. 219-310.
- Лосский Н. О. Условие абсолютного добра. Париж: YMCA-PRESS, 1949. 382 с.
- Лушников Д., свящ. Религия и мораль в современной западной рациональной теологии // Его же. Основное богословие. М.: Изд-во «Познание», 2021. [В печати].
- Стеллецкий Н., прот. Нравственное православное богословие. Т. I. М.: ФИВ, 2009. 416 с.
- Хардин Р. Пределы разума в моральной теории // Мораль и рациональность. М., 1995. С. 79-93.
- Холмс Р. Мораль и общественное благо // Мораль и рациональность. М., 1995. С. 64-78.
- Шохин В.К. Четвёртый путь? К этическому обоснованию агатологии // Этическая мысль | Ethical Thought. М., 2013. Вып. 13. С. 47-75.