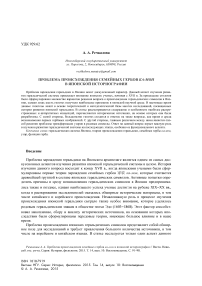Проблема происхождения семейных гербов ка-мон в японской историографии
Автор: Речкалова Анастасия Александровна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 10 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Проблема зарождения геральдики в Японии носит дискуссионный характер. Данный аспект изучения развития геральдической системы привлекает внимание японских ученых, начиная с XVII в. За прошедшие столетия было сформулировано множество вариантов решения вопроса о происхождении геральдических символов в Японии, однако лишь шесть гипотез получили наибольшее признание в японской научной среде. В настоящее время данные гипотезы лежат в основе теоретической и методологической базы многих исследований, посвященных истории развития японской геральдики. В статье рассматриваются содержание и особенности наиболее распространенных и авторитетных концепций, перечисляются исторические источники, на основе которых они были разработаны. С одной стороны, большинство гипотез сходится в ответах на такие вопросы, как время и среда возникновения первых гербовых изображений. С другой стороны, главным различием между ними является способ решения проблемы трансформации узоров в родовые символы. Ответ на данный вопрос играет важную роль в изучении развития геральдической системы на последующих этапах, особенно ее функционального аспекта.
Геральдическая система японии, теории происхождения геральдики, семейные гербы ка-мон, узор, функция герба
Короткий адрес: https://sciup.org/147219265
IDR: 147219265 | УДК: 929.62
Текст научной статьи Проблема происхождения семейных гербов ка-мон в японской историографии
Проблема зарождения геральдики на Японском архипелаге является одним из самых дискуссионных аспектов изучения развития японской геральдической системы в целом. История изучения данного вопроса восходит к концу XVII в., когда японскими учеными были сформулированы первые теории зарождения семейных гербов 家紋 ка-мон , которые считаются древнейшей группой в составе японских геральдических символов. Активные попытки определить причины и среду возникновения геральдических символов в Японии предпринимались также и позднее, однако наибольшего успеха ученые достигли на рубеже XIX ‒ XX вв., когда в распоряжении исследователей оказались обширные исторические материалы, в том числе китайского и корейского происхождения. Немаловажную роль в процессе изучения происхождения японской геральдики сыграло также особое внимание, которое уделялось родовым геральдическим знакам в обществе эпохи Эдо (1603 ‒ 1868). Этот фактор способствовал накоплению, сбору и анализу исторических источников, на основании которых впоследствии были сформулированы передовые теории, имеющие большое влияние и в наше время.
Проблема происхождения японских геральдических символов представляет собой обширное поле для исследований и требует привлечения большого количества источников, в том числе на корейском и китайском языках. В статье исследуется только один аспект данного
Речкалова А. А . Проблема происхождения семейных гербов ка-мон в японской историографии // Вестн. Ново-сиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 10: Востоковедение. С. 91–98.
ISSN 1818-7919
Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 10: Востоковедение © А. А. Речкалова, 2015
вопроса: специфика и содержание научных гипотез о происхождении геральдических символов, сформулированных японскими авторами.
Прообразы геральдических изображений
Изначально аристократы эпохи Хэйан размещали полюбившиеся узоры на одежде и домашней утвари. На живописных свитках ^#^ эмаки-моно , таких как «Иллюстрированная повесть о Гэндзи» 1 и «Иллюстрированный рассказ о старшем советнике Бане и пожаре во дворце» 2, видно, что орнаменты размещались на женских и мужских одеяниях, на шторах при входе в помещение – 暖簾 норэн и на пологах. В знаменитом произведении эпохи Хэйан «Повесть о Гэндзи» 3 встречаются упоминания об узорах 紋 мон [Повесть о Гэндзи, 2010. С. 230; Судзуки Тоору, 2003. С. 14].
Узорами также украшались повозки, запряженные быками, служившие средством передвижения придворной аристократии. В генеалогическом списке «Знатные и низкие роды» 4 в параграфе, посвященном Сайондзи (Фудзивара) Санэсуэ 西園寺(藤原)実季 (1035–1092), есть указание на то, что тот украсил свой экипаж узором 巴 томоэ , который впоследствии получил название ЖЙ^Е Сайондзи томоэ (букв. «узор томоэ рода Сайондзи»). В трактате «Записки о главном» 5, повествующем о церемониях и традициях, сказано, что аристократ по имени Токудайдзи Санэёси 徳大時実能 (1096–1157), родственник Сайондзи Санэсуэ, аналогичным образом использовал узор ЖД мокко: (букв. «цветок дыни»). Поскольку Санэёси использовал этот орнамент постоянно, его стали называть @ЖЖЖД Токудайдзи мокко: (букв. «Цветок дыни рода Токудайдзи») [Нисимура Масами, 2010. С. 129–131].
На тот момент речь еще не шла о семейных гербах, так как узоры томоэ и мокко: использовались в качестве специфического символа для выделения экипажей из общей массы и указывали на конкретных людей, но не на семью или род. Эти символы получили название 車紋 ся-мон или курума-мон (букв. «символ на повозке») [Като Хидэюки, Синдзи Ёситомо, 1964. С. 27–30].
Символы курума-мон играли важную роль в так называемом «дорожном этикете» ^^Ж рото:рэй (букв. «церемонии в дороге») . Аристократы во время передвижения в экипажах могли издалека определить ранг будущего собеседника и подготовиться для проведения необходимых церемоний. Распространение семейных гербов в среде аристократии во многом было продиктовано практической пользой геральдики как инструмента визуальной демонстрации принадлежности к тому или иному рангу или роду [Такасава Хитоси, 2013. С. 37].
Таким образом, главная проблема в установлении времени возникновения семейных гербов заключается в том, что узоры не были признаны в одночасье символами определенных родов. На протяжении нескольких поколений в различных семьях для украшения одежды, экипажей и домашней утвари использовались одинаковые орнаменты, которые в неопределенный момент времени начали с ними ассоциироваться и таким образом трансформировались в семейные гербы. Процесс трансформации обычно завершался присвоением нового названия по принципу: ключевой элемент гербового изображения плюс родовое имя создателя [Като Хидэюки, Синдзи Ёситомо, 1964. С. 33–35; Такасава Хитоси, 2013. С. 37].
Гипотезы возникновения семейных гербов
На данный момент существует несколько наиболее авторитетных гипотез возникновения геральдики в Японии. Большинство из них сходится в ключевых моментах (время возникновения и среда происхождения), но различается в деталях (исторические памятники и документы, которые были использованы для построения гипотезы, и источники происхождения гербовых изображений).
Гипотеза Ямага Соко ЩШЖ^ (1622-1685) 6. В трактате «Записки о воинском сословии» ( Й^#№ Букэ дзики , 1673) Ямага Соко выдвигает идею о том, что прообразы гербовых символов мон были впервые нанесены на флаги в правление императрицы Суйко 推古天皇 (554– 628). В своей гипотезе он опирается на данные хроники «Записанные кистью анналы Японии» ( 0^#^ Нихон сёки , 720) 7 и анонимного произведения рубежа XII-XIII вв. «Восточное зерцало» ( ^Ш# Адзума кагами )8 [Нумата Райсукэ, 1968. С. 7].
Действительно, в исторической хронике «Нихон сёки» зафиксировано, что был отдан приказ нанести узоры на флаги в 604 г. Однако нет оснований считать нанесенные узоры гербами или их прообразами: изображения белого тигра, лазоревого дракона, черной черепахи и красной птицы, которыми украсили флаги, не использовались как символы императорского рода [Нихон сёки, 2005. С. 363–368].
По мнению Ямага Соко, переход от прообразов геральдических символов к семейным гербам произошел в конце XII в., во время войны Гэмпэй 源平合戦 (1180–1185) между родами Тайра и Минамото. Признаки трансформации в гербовые изображения: появление у геральдических символов функций маркера коллективной принадлежности, покровительства и подчинения, инструмента идентификации личности [Тикано Сигэру, 1993. С. 3].
Гипотеза Араи Хакусэки ^^Й5 (1657-1725)9. В произведении «Записки благородного мужа» ( 紳書 Синсё , 1706) Араи Хакусэки предполагает: «Гербы пошли от специфических символов на экипажах курума-мон и личных вещах аристократов». В своей гипотезе он ссылается на данные «Записок о главном», генеалогический список «Знатные и низкие роды» [Нумата Райсукэ, 1968. С. 8]. Признаки трансформации в гербовые изображения: использование специфических знаков для демонстрации принадлежности вещей и присутствия на определенной территории (оповещение о прибытии) [Тикано Сигэру, 1993. С. 3]. Исходя из гипотезы Араи Хакусэки, символы курума-мон могут считаться первыми геральдическими символами сразу, как только они начинают ассоциироваться с определенными личностями и родами.
Гипотеза Исэ Садатакэ ^^Ж^ (1717-1784) 10. В трактате «Травы четырех сезонов» ( Щ^^ Сики-куса , 1778) высказывается гипотеза о том, что гербы - отличительный признак воинских стягов и полевых ширм, поэтому правильно возводить начало геральдических знаков к смутам годов Хо:гэн 保元の乱 11 и Хэйдзи 平治 12. Признаки трансформации в гербовые изображения и время возникновения сходны с теми, что выдвигает Ямага Соко. Источники, на которые опирался Исэ Садатакэ, неизвестны [Тикано Сигэру, 1993. С. 3].
Гипотеза Наматакэ Цунэнори ^Щ В®@ (1846-?) 13. В монографии «Происхождение семейных гербов» (^^ОЙ^ Камон-но юрай, 1910) он выдвинул предположение, согласно которому семейные гербы появились в эпоху существования древней системы 友部 томобэ – деление на наследственные социальные группы по роду занятий (середина V в. н. э). По дан- ным «Нового реестра кланов и фамилий» (^ЯЙЙ^ Синсэн сё:дзи року, 815) 14, многие представители групп, занятых высокотехнологичным производством (выплавка металла и создание оружия), были выходцами с материка, по большей части с территории государства Пэкче. Предположительно именно оттуда на Японский архипелаг была привезена новая традиция – ношение родовых символов [Нумата Райсукэ, 1968. С. 9].
Согласно данной гипотезе, все профессиональные группы, принадлежавшие к внутреннему дворцу императора, имели специфические символы. Именно они впоследствии трансформировались в семейные гербы. Признаки перехода от прообразов гербовых изображений к геральдическим символам в монографии Наматакэ Цунэнори не обозначены [Тикано Сигэру, 1993. С. 3]. В построении своей гипотезы Наматакэ Цунэнори опирался на «Новый реестр кланов и фамилий», храмовые истории «Дайго:дзи энги» 醍醐寺縁起 (вторая пол. IX в.), «Дайандзи энги» 大安寺縁起 (сер.VIII в.), «Хо:рю:дзи энги» 法隆寺縁起 (нач. – сер. VIII в.) и т. д. [Нумата Райсукэ, 1968. С. 9].
Гипотеза Нумата Райсукэ ^НЖ# (1867-1934)15. Нумата Райсукэ выдвинул предположение о том, что гербы аристократии и военного сословия имеют разные истоки. Семейные гербы аристократов произошли от узоров на экипажах, одежде или были созданы в память о каких-либо событиях или людях. Время возникновения геральдики датируется концом эпохи Хэйан – началом эпохи Камакура 鎌倉時代 (кон. XII – нач. XIII вв.). Изначально узоры использовались для украшения экипажей, однако затем стали наследоваться потомками и естественным образом превратились в семейные гербы [Там же. С. 21–28].
Большинство гербов военного сословия произошло от символов на флагах и полевых ширмах, хотя среди них были и такие, которые пошли от узоров на одежде. Во время вооруженных столкновений в конце эпохи Хэйан клан Тайра 16 использовал красные флаги, а клан Минамото 17 – белые для идентификации сторон на поле боя. Однако когда война охватила всю страну, специфические символы для идентификации на поле боя понадобились всем участвующим силами. На флаги и ширмы начали наносить гербы, чтобы обозначить свое родовое имя ( ft удзи - по происхождению и ^Ж мё:дзи - по месту проживания), происхождение и земельные владения [Нумата Райсукэ, 1968. С. 28–30].
Признаки трансформации в гербовые изображения (трансформации от прообразов гербовых изображений к гербам): появление функции инструмента идентификации личности и рода [Там же. С. 21–30]. Согласно теории Нумата Райсукэ, появление у прообразов геральдических символов функции удостоверения личности в среде аристократии и военного сословия произошло независимо друг от друга и в разные хронологические периоды.
Среди источников, на которых основывается гипотеза, можно указать следующие: трактат «Записки о главном», «Повесть о доме Тайра» ( ^^^м Хэйкэ моногатари , нач. XIII в.), «Записи о расцвете и упадке Минамото и Тайра» ( Ш^^^дй Гэмпэй дзё:суйки , нач. XIII в.), летопись «Восточное зерцало», живописный свиток «О монгольском вторжении» ( 蒙古襲来 ^в^ Мо:ко сю:рай экотоба , ок. 1293 г.), живописные свитки «О чудесах, сотворенных божеством Касуга» ( #0ЖЖ^Й^ Касуга гонгэн кэнкиэ , 1312-1317), гербовый список «Известные семейные гербы» ( Ж^#^/^ Кэммон сёка-мон , ок. 1460-1470), геральдический справочник «Записки о гербах на флагах и шлемах провинции Ава» ( 阿波国旗下幕紋控 Ава-коку кикамаку монхикаэ , 1570-1572) и др. [Нумата Райсукэ, 1968. С. 21-30].
Гипотеза Такасава Хитоси йШ^ (1959 - наши дни) 18. Большую роль в формировании геральдики сыграло бережное отношение придворной аристократии IX–XI вв. к знаниям и древним реликвиям. Важнейшим фактором для существования геральдики является ее использование в течение нескольких поколений. Таким образом, узоры и знаки трансформировались в гербы только тогда, когда их стали передавать по наследству из поколения в поко- ление. Впервые акт наследования был зафиксирован в историко-философском сочинении «Записки глупца» (®W^ Гукансё:, автор - монах Дзиэн ^Н (1155-1255) 19, годы создания 1219–1220): «знак томоэ передается в семье вместе с повозками 牛車 гисся» [Горегляд, 1975; 1997; Такасава Хитоси, 2013. С. 37].
Обсуждение
Если обобщить изложенные выше гипотезы, то можно сделать вывод о том, что истоки семейных гербов ка-мон восходят к узорам на экипажах, одежде и утвари аристократических родов, а примерное время возникновения можно обозначить рамками конца XII – начала XIII в. Семейные гербы появились в аристократической среде и, по мнению Моримото Кэйити, Судзуки Тоору и Нумата Райсукэ, в большинстве случаев выполняли эстетическую функцию украшения быта [Моримото Кэйити, 2009; Нумата Райсукэ, 1968; Судзуки Тоору, 2006]. Несмотря на то что толчком для создания семейных гербов послужила практическая необходимость идентифицировать личные вещи в массе чужих, если бы не возвышение военного сословия, геральдика не развилась бы дальше символов курума-мон [Моримото Кэйити, 2009. С. 23].
Процесс создания геральдики в Японии нельзя ограничить лишь рамками аристократии, хотя ее первенство в этом вопросе практически не вызывает сомнений. Без вовлеченности военного сословия развитие геральдической традиции вряд ли стало бы возможным. В среде военной аристократии использование гербовых знаков стало насущной необходимостью, так как из-за увеличения масштабов военных действий остро встал вопрос идентификации союзных и вражеских сил на поле боя. Именно усиление роли военного сословия в конце эпохи Хэйан (кон. XII в.) и предопределило становление и развитие геральдики в Японии. Новые общественные потребности стимулировали появление новых функций гербов и, как следствие, развитие геральдической традиции в целом [Там же. С. 23].
Первые попытки применить специфические знаки для идентификации сторон на поле боя предприняты во время смут середины XII в. Эти события описаны в историко-литературном произведении в жанре гунки-моногатари ( Ж^^М ) «Смута годов Хэйдзи» 20: «Начиная с десятого дня в Рокухара подымался шум: “Нападут из дворца!”, а во дворце кричали: “Нападут из Рокухара!” И Тайра, и Минамото с белыми флажками и красными значками то и дело ездили друг мимо друга» [Повесть о смуте…, 2011. С. 69–70]. Данные события зафиксированы в живописных образах свитка Хэдзи-моногатари эмаки ( Ж^^М^# , сер. XIII в.) 21. Однако в случае с более масштабными боевыми действиями (как, например, война между родами Тайра и Минамото) количество участвующих людей и кланов резко возрастало. Кроме того, эти семьи настолько разрослись, что каждая насчитывала не по одной ветви в составе рода [Судзуки Тоору, 2003. С. 36]. Идентифицировать союзников и врагов на поле боя лишь по цвету флагов стало невозможно.
В связи с этим представители военного сословия 武士 буси начали наносить специфические символы, указывающие на принадлежность к роду, на полевые ширмы, которыми огораживали ставку командующего, 陣幕 дзиммаку (букв. «лагерная ширма»); флаги по типу хоругви Ж^ хата-дзируси (букв. «рисунок на флаге»), которые представляли собой длинные узкие полотнища, закрепленные верхним краем на поперечной перекладине, которая была зафиксирована на древке [Судзуки Тоору, 2003. С. 37]. Переход от идентификации при помощи цветных флагов к более сложному способу с использованием специфических символов был продиктован увеличением количества вовлеченных в войну родов и интенсификацией военных действий.
Что же касается гипотезы обособленного происхождения гербовых знаков военного сословия, предложенной Нумата Райсукэ, то есть ряд фактов, ставящих вероятность такого развития событий под сомнение. Во-первых, представители элиты военного сословия, которым и принадлежит первенство использования гербов в военных действиях, в подавляющем большинстве случаев были выходцами из могущественных аристократических родов. Гербовые знаки, применяемые ими для идентификации на поле боя, уходят корнями в традиционные узоры на одежде и экипажах, издавна бытовавшие в их семьях (например, в случае с гербами родов Сасаки (佐々木氏) и Кумагай (熊谷氏), соответствующими узорам на кимоно их предков, зафиксированным в литературных произведениях конца эпохи Хэйан 22). Во-вторых, несмотря на то что семейные гербы служилого сословия появились несколько позже (кон. XII в.) и распространились среди воинов буси довольно быстро, наличие у них отличного от аристократических гербов источника происхождения сомнительно. Прежде всего, это связано с тем, что неродовитые представители военного сословия часто использовали в качестве гербовых символов родовые знаки своих сюзеренов, что зафиксировано на многочисленных свитках эмаки-моно, посвященных войне между кланами Тайра и Минамото [Тикано Сигэру, 1993. С. 3]. Вероятнее всего, гербовые изображения создавались либо по образу и подобию аристократических символов с незначительными изменениями, либо просто копировали гербы сюзеренов.
Выводы
История изучения японской геральдики насчитывает несколько веков, однако и в настоящее время проблема зарождения гербов на Японском архипелаге вызывает дискуссии, как в самой Японии, так и в мировом научном сообществе. По-прежнему остро стоит вопрос о времени и среде возникновения первых геральдических символов. Не менее важным аспектом является проблема определения механизмов трансформации узоров в родовые символы. Данный аспект также непосредственно связан с целым направлением изучения японской геральдической системы – исследованием функциональной эволюции японских гербов.
К сожалению, практически никто из японских исследователей не рассматривает проблему возникновения геральдики на Японском архипелаге через призму возможного влияния материковой культуры. Исследование вероятных связей японской геральдики с материковой культурой видится как перспективное поле для дальнейшего изучения. Несмотря на то что японские ученые указывают на отсутствие в Китае и Корее аналогичной Японии традиции широкого использования специфических символов в целях указания на групповую и личную принадлежность, закрепления права владения, подтверждения территориального присутствия и т. д., с точки зрения функционального и структурного сходства есть вероятность генеалогического родства тюркской и японской геральдических традиций.
Список литературы Проблема происхождения семейных гербов ка-мон в японской историографии
- Горегляд В. Н. Дневники и эссе в японской литературе X-XIII вв. М.: Наука, 1975. 386 с.
- Горегляд В. Н. Японская литература VIII-XVI вв.: начало и развитие традиций. СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 1997. 416 с.
- Повесть о Гэндзи / Пер. с др.-яп. и вступ. ст. Т. Л. Соколовой-Делюсиной. СПб.: Гиперион, 2010. Т. 1. 592 с.
- Повесть о смуте годов Хэйдзи / Пер. с др.-яп. В. А. Онищенко. СПб.: Гиперион, 2011. 288 с.
- Като Хидэюки, Синдзи Ёситомо. Нихон-но ка-мон [日本の家紋]. Японские семейные гербы. Токио: Синдзинбуцу о:райся, 1964. 261 с.
- Моримото Кэйити. Ка-мон-о сагуру - асобикокоро то ва-но дэзаин [家紋を探る - 遊び心と和のデザイン ]. Исследование японского герба: развлечение и японский дизайн. Токио: Хэйбонся, 2009. 224 с.
- The Samurai Archives History Page // Англоязычный сайт, посвященный информации по знаменитым самураям, а также по культуре, образу жизни, геральдике, военной истории. URL: http://www.samurai-archives.com/ (дата обращения 08.05.2015).
- Нисимура Масами. Ка-монсюги сэнгэн [家紋主義宣言 ]. Декларация принципов японской геральдики. Токио: Каваде сёбо: синся, 2010. 350 с.
- Нихон сёки [日本書記 ]. Анналы Японии. Токио: Кавадэ сёбо: синся, 2005. 432 с.
- Нумата Райсукэ. Нихон монсё:гаку [日本紋章学 ]. Японская геральдика. Токио: Дзинбуцу о:райся, 1968. 1385 с.
- Судзуки Тоору. Ка-мон дэ ёмикаку нихон-но-рэкиси [家紋で読み解く日本の歴史 ]. Понять историю Японии с помощью семейных гербов. Токио: Гакусю: кэнкю:ся, 2003. 286 с.
- Такасава Хитоси. Ка-мон-но-кигэн то рэкиси о тадору [家紋の起源と歴史を辿る ]. Изучение истоков и истории семейных гербов // Исторические личности. Токио: Бэсто сэрадзу, 2013. Вып. 3. С. 36-43.
- Тикано Сигэру. Нихон ка-мон со:кан [日本家紋総鑑 ]. Сборник японских семейных гербов. Токио: Кадокава сётэн, 1993. 1357 с.