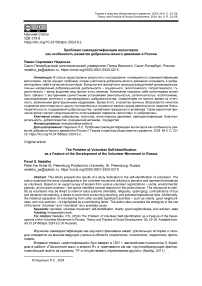Проблема самоидентификации волонтеров как особенность развития добровольческого движения в России
Автор: Неделько П.С.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 9, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены результаты исследования, посвященного самоидентификации волонтеров. Автор изучает проблему отказа участников добровольческого движения осознавать и репрезентировать себя в качестве волонтеров. В результате экспертного опроса руководителей организаций различных направлений добровольческой деятельности - социального, экологического, патриотического, туристического - автор выделяет ряд причин этого явления. Нежелание называть себя волонтерами может быть связано с внутренними ценностными установками (ментальностью, религиозностью, воспитанием), противоречиями истинного и декларируемого добровольчества, стремлением не тратить время на отчетность, возможными репутационными издержками. Кроме этого, в качестве причины обозначается нечеткое отделение волонтерства от других положительных социально важных видов деятельности: ведения благотворительности, поддержания добрососедства, проявления гражданского активизма. Также вероятной причиной автор считает неоднозначность использования терминов «волонтер» и «доброволец».
Волонтер, волонтерское движение, самоидентификация, благотворительность, добрососедство, гражданский активизм, государство
Короткий адрес: https://sciup.org/149146078
IDR: 149146078 | УДК: 316.6 | DOI: 10.24158/tipor.2024.9.2
Текст научной статьи Проблема самоидентификации волонтеров как особенность развития добровольческого движения в России
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия, ,
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia, ,
Изучение самоидентификации как научного феномена имеет длительную историю и сегодня опирается на мнение ведущих ученых в области социологии, психологии, педагогики, философии.
Впервые термин «идентификация» был введен в 1921 г. австрийским психологом З. Фрейдом в работе «Психология масс и анализ Я» и трактовался им как «группообразующий фактор, помогающий выйти за пределы “Я” и почувствовать переживание других» (Фрейд, 2011).
Э. Эриксон занимался вопросами идентичности, выделяя ее групповую, как ощущение единства со своим социальным окружением, и психосоциальную разновидности (Erikson, 1995).
В.Р. Миняшева, И.А. Степанова, изучая точку зрения Э. Фромма на потребности человека, отмечают, что необходимость идентификации он считал укорененной в самой природе человека (Миняшева, Степанова, 2022).
Американский психолог А. Маслоу, согласно А.В. Букуровой, также относил потребность в самоидентификации к одной из базовых для субъекта (Букурова, 2021).
В контексте нашего исследования мы обращаемся к проблемам осознания себя волонтерами гражданами, участвующими в добровольческом движении, идентификации ими себя в таком качестве.
Говорить о каком-то систематическом развитии российского волонтерства можно только с 2014 г., когда в Сочи проходили Олимпийские игры и по международным правилам в организации мероприятия определенную долю участия должны были принимать волонтеры. Эта необходимость обусловила создание определенной нормативно-правовой базы, специальной инфраструктуры, центров подготовки волонтеров и т. д. В Федеральном законе «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи, развитии г. Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 01.12.2007 № 310–ФЗ было зафиксировано, что волонтеры – это «граждане Российской Федерации и иностранные граждане, заключившие с Оргкомитетом “Сочи 2014” гражданско-правовой договор об участии в организации и (или) проведении Олимпийских игр и Паралимпийских игр путем применения своего опыта, знаний, умений и навыков в целях осуществления мероприятий по организации и проведению Олимпийских игр и Паралимпийских игр без предоставления указанным гражданам денежного возмещения за осуществляемую ими деятельность»1.
В дальнейшем центры подготовки волонтеров расширили свою деятельность и в настоящий момент представляют собой не только обучающие организации для крупных спортивных мероприятий, но и координационные и информационные центры, связывающие потенциальных волонтеров с организациями, нуждающимися в их помощи.
Отметим, что сегодня государство уделяет пристальное внимание волонтерскому движению: эта тематика регулярно присутствует в информационной повестке средств массовой информации, на реализацию волонтерских проектов выделяются гранты и субсидии; волонтерство стало составной частью реализуемой в стране молодежной политики, а также, по нашему мнению, претендует на место одного из явлений, связующих российское общество, выполняя функции так называемой «скрепы».
Однако до сих пор как в российском обществе в целом, так и внутри добровольческого движения в частности отсутствует единое мнение о том, что такое волонтерство, чем оно отличается от других видов гражданской активности. Люди, занимающиеся по факту такой деятельностью, волонтерами себя не идентифицируют. В рамках исследования «Участие россиян в волонтерской деятельности», проведенного в 2018 г. Центром исследования гражданского общества и некоммерческого сектора, было выявлено, что лишь 10 % опрошенных, ведущих добровольческую деятельность, однозначно готовы назвать себя волонтером; 23 % респондентов продемонстрировали неуверенность в самоидентификации, выбрав ответ «скорее, да». Остальные 67 % участников исследования признали, что не считают себя волонтерами, либо затруднились с ответом2.
Результаты онлайн-опроса, который мы провели среди приверженцев рассматриваемого вида деятельности в Санкт-Петербурге, показали, что только половина респондентов решились назвать себя волонтерами или добровольцами, 46,8 % опрошенных заявили, что они просто помогают.
Гипотеза, прорабатываемая в рамках данного исследования, заключается в том, что российские волонтеры редко транслируют свою принадлежность к добровольческим организациям, не идентифицируют себя в этом качестве.
В исследовании применялся метод полуформализованного интервью руководителей волонтерских организаций, связанных с туризмом, экологией, решением социальных проблем и т. д. Выбор экспертов был определен их принадлежностью к наиболее распространенным направлениям волонтерских практик. Выборка не является репрезентативной (n = 12), так как исследование носит пилотный характер.
Задачей его было изучить работу волонтерских организаций Санкт-Петербурга и выяснить мнения представителей их руководящего состава на предмет того, кого можно считать волонтером в России в настоящее время, чем принципиально отличается добровольческая деятельность от иных гражданских и социально значимых действий.
В рамках интервью респондентам предлагались вопросы, касающиеся определения ключевых терминов темы, мотивации участия граждан в волонтерской деятельности, структуры осуществляющих ее организаций, эффективности их работы и прочего, однако часто ответы опрошенных так или иначе касались сути волонтерства, индивидуального понимания этого общественного явления и самоопределения волонтеров в системе, в которой они существуют.
Прежде всего, следует рассмотреть такую тенденцию, как отказ от идентификации себя в качестве волонтера людьми, совершающими действия, которые можно обозначить как добровольческую деятельность. Наши информанты также отметили, что среди волонтеров встречаются те, кто не считает себя таковыми.
Можно выделить несколько причин такого положения дел.
В первую очередь среди них следует выделить те, которые связаны с категориями внутреннего мира индивидов, их ценностями и устоями. Скромность и даже скрытность, свойственные волонтерам, могут быть объяснимы историческими корнями и ментальностью русского народа, отечественными традициями ведения благотворительности и оказания взаимопомощи, связанными с глубокой христианизацией: «Я помогаю, просто потому что я помогаю, и не надо, чтобы писали мое имя на всех бумажках». Для людей помощь другим является чем-то личным, сокровенным. Возможно, в случае придания огласке совершаемый добрый поступок может потерять эту значимость.
Слова другого информанта, который рассказывает о своем личном опыте волонтерской деятельности, обнажают определенный внутренний диссонанс, противоречие между субъективным восприятием ценностей волонтерства, такими как преданность своему делу, ответственность, взаимовыручка и т. д., которые, безусловно, информант разделяет, и внешней оболочкой, лозунгами, шумихой, которые сопровождают современное добровольческое движение в России: «Это сейчас волонтерство стало модным. Ты волонтер – ты крутой! […] Сейчас это все на государственном уровне, целые программы, куча форумов […] Мы начинали, этого ничего не было. Мы просто это делали, потому что нам это нравилось, мы не называли себя волонтерами».
Подчеркивается, что называть себя волонтером стало популярно совсем недавно, и это во многом связано с государственной политикой по развитию этого общественного движения.
Другим важным моментом является нежелание волонтеров тратить свое время на то, чтобы каким-то образом отмечать свою деятельность. Для них важнее делать то, что они делают, помогать, проявлять заботу, чем рассказывать или писать об этом или тем более заполнять какие-либо отчеты или регистрационные формы: «Есть идейные волонтеры, которые помогают «РазДельному сбору» и другим организациям. Их вклад, он нигде и никак не фигурирует. Никто не знает, что миллион часов потратили люди на борьбу с онкологией, посадки деревьев – на что угодно. Потому что этим людям неинтересно заморачиваться с какими-то дополнительными регистрациями, они просто делают, что должно, и все классно».
Нежелание каким-то образом афишировать свою помощь может быть связано, в том числе, и с вполне рациональными, меркантильными интересами. Это больше свойственно организациям и может относиться к аспектам репутации, корпоративной этики, пиар-политики и т. д.: «Например, бизнес. Они не хотят, чтобы про них говорили. У них могут быть разные причины. Они занимаются благотворительностью, но просто, может быть, не хотят кичиться, может быть, их политика не позволяет говорить. Может быть, они производят алкоголь, табак, еще что-то».
Следующей важной проблемой самоидентификации приверженцев данного направления социальной активности является нечеткое отделение волонтерства от благотворительности, добрососедства, гражданского активизма. Так, в общественном сознании оно часто сопряжено именно с благотворительностью, правда, эти понятия не отождествляются друг с другом, но и не имеют четкой грани между собой.
В научном поле также нередко встречается путаница в трактовках. Например, при исследовании генезиса волонтерства среди ученых нет единства в том, с какого момента следует говорить о возникновении волонтерской деятельности как явления. К ней относят и систему государственного призрения, и церковно-приходские организации, и меценатство.
С точки зрения одного из информантов, ключевым отличием волонтера от благотворителя является производство им активного социально значимого действия ради целей организации. Благотворитель делится своими материальными ресурсами (деньгами, вещами и т. д.), волонтер же осуществляет прямое действие, жертвует свое время, делится опытом: «Волонтерство отличается от благотворительности тем, что благотворитель не участвует глубоко в самом процессе работы организации, которой он помогает. Он делится какими-то ресурсами: деньгами, вещами или чем-то еще, но в само дело, которое делает организация, он не погружается, в отличие от волонтера, который своими руками реализует то, что хочет делать организация».
Отметим, что такое мнение подтверждает контекст исторического развития благотворительности и волонтерства. В период промышленной революции XIX в. произошло серьезное материальное расслоение между крайне богатыми и очень бедными категориями населения, что регулярно приводило к социальным конфликтам в обществе. Это вынудило обеспеченную часть граждан принимать участие в благотворительной деятельности, целью которой, среди прочих, было также сглаживание острых социальных проблем. Люди, которые не имели денежных средств, но при этом чувствовали внутреннюю потребность в совершении общественно важных поступков, удовлетворяли ее путем добровольного и бескорыстного труда ради помощи нуждающимся.
В словах другого респондента также присутствует мысль о том, что волонтерство является инструментом в руках благотворительной организации: «Волонтерство может существовать без благотворительности в целом, а благотворительность может использовать волонтерство в своих целях. Для благотворительности волонтерство – это способ достижения ее целей».
Здесь, с нашей точки зрения, стоит обратить внимание на важный тезис о целеполагании волонтеров. Они действуют ради интересов представляемой ими организации, которая при этом необязательно должна быть благотворительной. Волонтерство выступает инструментом в руках тех, кто привлекает труд добровольных помощников. Абсолютно четко эта мысль сформулирована в словах одного из информантов-экспертов: «Я добровольно свои силы, время готова отдать на реализацию этой цели. Я не получаю за это никакие деньги. Это не моя цель. Моя цель какая-то косвенная: получить удовольствие, признание. Но реальная цель она кем-то другим ставится. Я признаю свое подчиненное положение».
Еще одним отличием благотворительности от волонтерства, которое отметили эксперты, является профессионализация благотворительности: «Если мы говорим о добровольчестве по желанию, по воле человека – сегодня я хочу, завтра я не хочу. И никто не может сказать, кроме твоей совести, что надо довести дело до конца. А благотворительность это уже более системная, более профессиональная сфера».
Таким образом, благотворительность является сферой трудовой деятельности, в которой работают профессиональные сотрудники, имеющие соответственное образование и получающие заработную плату. Они следуют определенным должностным инструкциям и принимают на себя конкретную ответственность, регулируемые трудовым законодательством. Волонтер же – это призвание, досуг, но не профессия.
Чем же волонтерство отличается от взаимопомощи? Некоторые зарубежные (Zakariás, 2023: 423) и отечественные (Зборовский, Певная, 2019) ученые указывают, что люди, которым оказывается помощь, не должны состоять с волонтером в родственных, соседских или иных личных связях1, волонтерство должно быть за пределами семейных и дружественных отношений2. Один из наших информантов подчеркнул, что это разные вещи: «Потому что, все-таки, волонтерская деятельность – это часть такой благотворительности, которая какие-то проблемы общественные решает. Понимаете? Вот от того, что я подал соседке соль, в общем-то, какие-то проблем не решаются. А если люди объединились, чтобы тушить пожары, или даже вот такой патруль в каком-то микрорайоне, где много пожилых, организовали. Это вдруг стало всем заметно. И пожилые люди уже знают, уже не боятся в непогоду на улицу выйти. Все-таки мне представляется, что волонтерство это про это».
Похожего мнения придерживается другой эксперт: «Я считаю, что волонтер в основном действует вне рамок территории или каких-то интересов, которые для него имеют значение, потому что если я свою площадку подмела в подъезде, то я думаю, что это не волонтерство. Это как раз соседские взаимоотношения, чтобы у нас было все чисто, и мы приятно друг с другом общались. А если я еду на Крайний Север что-то делать с медведями, то мне с этого личной пользы вообще никакой нет».
Вопрос о том, чем волонтерство отличается от гражданского активизма, вызвал у экспертов, пожалуй, самые большие трудности. По нашему мнению, это ожидаемо, так как по сути своей рассматриваемый феномен является одним из видов активности членов социума. Здесь важно понять, как соотносятся между собой волонтерство и гражданское общество.
Исследователи последнего по-разному характеризовали его в зависимости от эпохи и географии проживания людей. Н.А. Колесникова и Е.Л. Рябова определяют гражданское общество как
«совокупность внегосударственных объединений граждан как носителей определенной идеологии и культуры, склонных к проявлению самоорганизации, инициативы, солидарности, сотрудничества, а также обладающих признаками модульности, то есть имеющих возможности эффективно встраиваться в общественные институты для решения собственных задач и удовлетворения своих интересов» (Колесникова, Рябова, 2019: 44). При этом в качестве особенности развития российского гражданского общества, являющегося сферой внегосударственных отношений, исследователи отмечают его тесное взаимодействие с государством (Колесникова, Рябова, 2019: 37). Это выражается, например, в создании общественных и наблюдательных советов для соответствия деятельности государства принципам открытости, проведении круглых столов, публичных дебатов, общественных экспертиз нормативно-правовых актов и т. д. (Колесникова, Рябова, 2019: 74).
Волонтерство как социальное явление полностью соответствует ключевым принципам гражданского общества, указанным выше, в том числе в области взаимодействия с государством.
Гражданское общество охватывает различные сферы: социальную, политическую, духовно-культурную, информационную. К первой относятся профсоюзы, общественные комитеты, благотворительные организации и фонды, общества взаимопомощи. Структура второй включает политические партии и организации, а также органы местного самоуправления. К духовно-культурной сфере относятся творческие, культурные, спортивные негосударственные объединения, церковные и религиозные организации. Институт гражданского общества в информационной сфере представляют негосударственные средства массовой информации (Shier et al., 2022: 998).
Волонтерство может быть представлено во всех перечисленных сферах (за исключением разве что политической, так как официально приверженцы рассматриваемого способа проявления общественной активности не имеют права участвовать в политической деятельности, хотя фактически это делают) как отдельная институция в виде самостоятельной организации или собственно волонтерской деятельности, осуществляемой членами объединений.
Эксперты – участники нашего исследования в данном контексте отметили: «Сложно во многих вопросах провести границу между гражданским активизмом и волонтерством. Например, юристы, профессиональные писатели текстов, они являются волонтерами на службе у некоммерческих организаций либо каких-то гражданских инициатив? И в этом смысле они кто: они гражданские активисты или они волонтеры? И то, и то, может быть?».
Л.И. Никовская, И.А. Скалабан концептуально различают гражданское (как процесс самоуправления) и социальное (как кооперация, взаимопомощь) участие (Никовская, Скалабан, 2017: 48). Нам представляется принципиально важным этот тезис. Волонтерское движение включает в себя оба указанных вида участия. В зависимости от целей такого рода организаций, от амбиций их лидеров волоньеры могут, в большей или меньшей степени, влиять на принятие решений на государственном уровне. При этом, с нашей точки зрения, государство, с одной стороны, пытается ограничить волонтерство исключительно социальным участием, с другой стороны, сами добровольческие организации часто отказываются от системного поиска решения проблемы при участии государства по причине сложности и бюрократизированности взаимоотношений с ним.
Наконец, третья проблема для самоидентификации волонтеров нам представляется в неоднозначности использования терминов «волонтер» и «доброволец», о чем, например, пишут А.Г. Истомина и О.А. Оберемко. Исследователи отмечают, что слово «доброволец» имеет эмоциональную окраску среди информантов, апеллирует к «нерефлексируемой настроенности чувства (души) и слуха на “родную речь”, воспринимается как нечто свое, родное. Слово “волонтер” эмоций не вызывает, воспринимается как иностранное, но используется также часто и является более понятным и общепринятым» (Истомина, Оберемко, 2015: 42).
Наши информанты отмечают, что «доброволец» – это просто русское слово, «волонтер» – иностранное. Разница между ними постепенно стирается как юридически, так и в обывательском представлении: «Между волонтерством и добровольчеством юридически была разница […], сейчас все эти понятия выровнялись. Добровольчество, мне кажется, просто такое русское слово. Волонтер – это не наше слово. Доброволец – это синоним волонтера в русском языке».
Мы предполагаем, что в российском лексиконе два эти термина будут существовать параллельно и использоваться в зависимости от контекста.
Таким образом, первой проблемой самоидентификации волонтеров можно назвать нежелание людей называть себя так. Мы выделили следующие причины:
-
1. Потеря сакрального смысла доброго поступка при его публичной огласке. Корни такого поведения могут быть связаны с национальной ментальностью, религиозностью, особенностями воспитания.
-
2. Возможное несоответствие внутренних принципов «истинного» волонтерского движения тому, что происходит в реальной жизни, когда принципы только декларируются, но не соблюдаются, когда уделяется внимание внешним атрибутам в ущерб внутренним ценностям.
-
3. Нежелание тратить время на отчетность и регламентацию в ущерб непосредственной практики безвозмездной помощи кому-либо.
-
4. Невозможность афишировать свою волонтерскую деятельность в тех случаях, когда распространение информации об этом может нанести вред самому добровольцу (вред репутации, нарушение схемы пиар-компании и т. д.)
Второй проблемой самоидентификации волонтеров является нечеткое отделение осуществляемой ими деятельности от других социально важных феноменов – благотворительности, добрососедства, гражданского активизма. Так, волонтерство отличается от благотворительности различными уровнями целей. У каждого добровольца существует своя мотивация, но все они действуют ради достижения целей, которые устанавливает объединяющая их организация. Волонтерство может использоваться не только благотворительными структурами, но только некоммерческими. Благотворительность, в отличие от него, является сферой профессиональной трудовой деятельности. Волонтерская деятельность является более системной и организованной, чем соседская взаимопомощь. Последняя имеет локальные цели и задачи, ограниченные территорией дома или микрорайона, в отличие от волонтерства, которое направлено на решение широкого круга проблем вплоть до глобальных. Кроме того, по сути своей волонтерство является одним из видов гражданской активности.
Наконец, третья проблема для самоидентификации волонтеров нам представляется в неоднозначности использования терминов «волонтер» и «доброволец». Слова эти юридически синонимичны, однако имеют культурные смысловые оттенки, возникающие в зависимости от контекста.
Результаты настоящего исследования могут быть использованы при разработке методических и учебных пособий по управлению волонтерскими организациями, а также учтены руководителями добровольческих организаций и координаторами волонтеров для построения системы мотивации участников движения. Кроме того, результаты будут полезны исследователям даного феномена при разработке классификаций.
Список литературы Проблема самоидентификации волонтеров как особенность развития добровольческого движения в России
- Букурова А.В. Концепция ценностей А. Маслоу и возможности ее применения // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2021. № 1. С. 97-106. DOI: 10.25198/2077-7175-2021-1-97 EDN: UXOPIQ
- Зборовский Г.Е., Певная М.В. Управление волонтерством: международный опыт и локальные практики. М., 2019. 433 с. EDN: TQDYUK
- Истомина А.Г., Оберемко О.А. Легитимация протестного участия волонтеров // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2015. № 6 (130). С. 32-47. DOI: 10.14515/monitoring.2015.6.03 EDN: VVTPAX
- Колесникова Н.А., Рябова Е.Л. Гражданское общество в современной России. М., 2016. 266 с. EDN: VNKUEB
- Миняшева В.Р., Степанова И.А. Эрих Фромм: о потребностях человека // Социально-гуманитарное знание: поиск новых перспектив. Пенза, 2022. С. 46-51. EDN: TVAJIG
- Никовская Л.И., Скалабан И.А. Гражданское участие: особенности дискурса и тенденции реального развития // Полис. Политические исследования. 2017. Т. 26, № 6. С. 43-60. DOI: 10.17976/jpps/2017.06.04 EDN: ZVMOKH
- Фрейд З. Психология масс и анализ Я. СПб., 2011. 192 с.
- Erikson E. A Way of Looking at Things Selected Papers. N. Y., 1995. 826 р.
- Shier M.L., Handy F., Turpin A. Measuring a Nonprofit's Civic Footprint // VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. 2022. Vol. 33. P. 990-1001. DOI: 10.1007/s11266-022-00456-9 EDN: BPWYZH
- Zakariás I. Kinship Idioms and Care-Control Dynamics in Hungarian Co-Ethnic Philanthropy // VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. 2023. Vol. 34. P. 418-432. DOI: 10.1007/s11266-022-00460-z EDN: KKYFKS