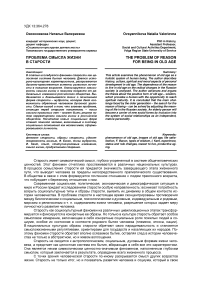Проблема смысла жизни в старости
Автор: Овсянникова Наталья Валериевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 9, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется феномен старости как целостная система бытия человека. Дается историко-культурная характеристика, раскрываются духовно-нравственные аспекты развития личности в пожилом возрасте. Анализируется зависимость смысла жизни в пожилом возрасте от радикальных изменений российского общества. Выдвигается и доказывается тезис о позитивной форме старости - мудрости, которая дает возможность обретения человеком духовной зрелости. Сделан вывод о том, что главная проблема, стоящая перед старшим поколением, - поиск смысла прожитых лет - может быть решена путем корректировки смысла жизни в российском обществе. Носителем новых социальных форм станет пожилой человек, включенный в систему социальных отношений как независимая, сформировавшаяся личность.
Феномен старости, образы старости, удовлетворенность жизнью, ф. бэкон, типы мудрости, и. кант, опыт, статусно-ролевые изменения, смысл жизни, продуктивное старение
Короткий адрес: https://sciup.org/14941044
IDR: 14941044 | УДК: 13:364.278
Текст научной статьи Проблема смысла жизни в старости
Старость имеет символический смысл, глубоко укорененный в системе общечеловеческих ценностей. Этот феномен отчетливо прослеживается в различных национальных культурах. В процессе осмысления старости ей придается значимость завершающего этапа жизненного пути, что выводит человека за пределы непосредственного прагматического существования. В обществе в связи с этим формируется почтенное отношение к людям преклонного возраста, что побуждает к бережному отношению к ним.
Современная социальная, политическая, экономическая и демографическая ситуация в мире и России придает исследованиям старости особую направленность: возникает потребность вскрыть социокультурные типы и образы старости, выявить их динамику в общем контексте истории человечества. В проблеме старости в настоящее время сконцентрированы противоречия между биологическим и социальным, психологическим и духовным, индивидуальным и родовым, мирским и религиозным и т. п. содержанием жизни человека, разрешение которых задает меру личностного развития человека.
Старость как социокультурный феномен на различных цивилизационных этапах трансформируется и фиксируется в конкретные ее образы. Но только в культуре старость обретает особое смысловое измерение, включающее в себя конкретные социальные роли пожилых людей в социуме, особое их состояние в контексте родового бытия человека (племени, этноса, нации). В национальных культурах образы старости обретают свою парадигмальность и становятся смысложизненными регулятивами, ориентирами для государств и населяющих их народов. Поэтому феномен старости обретает вполне осязаемое бытие, оставляя след в истории человечества не только в абстрактном, но и живом воплощении.
Старость не сводится к антропологическим, социальным, духовным формам жизни человека, а предстает как целостная система его бытия, вбирающая в себя все эти характеристики. Она является неким символическим ценностно-значимым феноменом, наполненным глубоким смыслом, который заключается в результате, оправдании всего жизненного процесса.
С точки зрения человеческой старости по-иному раскрывается смысл других возрастов жизни. Старость не только итог, но и показатель развития человека и социума, который в свою очередь тоже имеет возраст. Уникальность состояния старости заключается в ее культурном воображаемом пограничье между миром здешним и инобытийным, трансцендентным, потому она сама несет на себе отпечаток этой трансцендентности. Понимание человека как вселенского и сверхэмпирического существа можно обнаружить уже в философских системах прошлого, рассматривающих феномен старости не только с учетом его физиологической, но и телесно-духовной целостности. Духовное бессмертие позволяло позитивно прогнозировать дальнейшее положение человека в мире после смерти. По сути, жизнь и есть для человека проблема, которую он должен постоянно решать - «решать, чем мы будем» [1, с. 173]. Значит, надо постоянно что-то предпринимать, что-то делать, действовать. При этом каждый «приговорен только к собственной жизни, никто и никогда не заменит нас в этом труднейшем деле» [2, с. 507].
В данном контексте встает весьма важный вопрос о содержании и наполнении жизни. Полнота жизни, безусловно, является характеристикой самой жизни во всей ее многогранности. Она проявляется в удовлетворенности жизнью, которая зависит от того, что делает человек здесь и сейчас, или от содеянного им. За всем этим проступают стремление и желание идти вперед, достигать новых вершин или же горечь, раскаяние. Но как бы то ни было, через свободу и выбор, опирающиеся на «должен», «могу», «способен», субъект проектирует и конструирует в данный момент свою жизнь, накапливает жизненный потенциал. Нельзя не согласиться с Ф. Бэконом, что возраст человека определяется не столько его годами, сколько характером и качеством жизненного опыта.
Проведя сравнительный анализ устойчивых качеств юности и старости, Бэкон пришел к выводу, что «в деле лучше всего сочетать достоинства обоих возрастов; это будет хорошо как для настоящего, ибо достоинства каждого возраста могут исправить недостатки другого, так и для будущего, ибо молодые могут учиться, пока еще работают пожилые люди» [3, с. 352].
Можно усомниться в том, что какой-либо возраст вообще может быть ценнее другого, так как каждый возраст в свете целостности жизни ценен по-своему. Именно поэтому отношение к определенному возрасту у людей, равно как и у разных эпох, не может быть однозначным и одинаковым. Особенно это касается старости, где сходятся противоречия всей жизни, всех ее возрастов. В связи с этим пожилой возраст допускает по отношению к себе самые различные оценки и интерпретации: от высочайшего благоговения перед ним (старость как мудрость, духовность) до полнейшего к нему презрения (старческий маразм, впадение в детство, беспомощность и т. д.).
Искусство жизни состоит в том, «что во всяком возрасте надо наслаждаться его радостями и жить тем, что не устаревает» [4, с. 285], т. е. возраст надо определять по состоянию души.
Проблема старости решается каждым человеком сугубо индивидуально. Прожитые годы, даже если они и протекли незаметно для субъекта, в той или иной мере «откладываются» в нем в виде жизненного опыта, способного при определенных условиях переходить в житейскую мудрость. Традиционно возраст старости сравнивают с различными интерпретациями мудрости, в связи с чем исследователями выделяются типы мудрости. Приведем одну из таких классификаций:
-
- эстетический тип мудрости древних греков в его платоновском выражении; платоновские старцы являются воплощением космической мудрости как всеобщей согласованности, гармонии и красоты мироздания;
-
- этический тип мудрости римлян, представленный старцем-наставником;
-
- религиозный тип мудрости, сосредоточенный в образе духовного водителя - святого старца;
-
- религиозно-эстетический тип мудрости, рожденный эпохой Возрождения и представленный в образе творца [5, с. 228].
Разумеется, эти типы не исчерпывают всего многообразия толкования мудрости. Например, с точки зрения содержания мудрость определяется как «искусство жизни», «высшее знание», «знающее незнание», «единство истины и блага», «доброта ума и разумность сердца» и т. д.
Более радикально рассуждает о мудрости И. Кант. Философ отмечает, что человек может достигнуть полного применения своего разума как мудрости примерно к шестидесяти годам. При этом его мудрость носит скорее негативный характер, так как позволяет оценить все глупости, совершенные в течение жизни, и сказать: «Жаль, что приходится умирать тогда, когда мы только поняли, как следовало бы жить по-настоящему хорошо; но даже в этом возрасте такое суждение редко услышишь, ибо привязанность к жизни становится тем сильнее, чем меньшую ценность жизнь имеет в деятельности и наслаждении». По мнению Канта, мудрость даже обыденной жизни - явление редкое и не передается следующим поколениям, а истинная мудрость присуща только Богу. Человеческая же мудрость заключается в том, чтобы сообразовывать свои поступки с высшей мудростью и таким образом обезопасить себя от глупости. В силу морального непостоянства человека мудрость его есть «скорее сокровище, за которым самый лучший человек может только охотиться», причем «он никогда не решится самонадеянно убедить себя в том, что он уже овладел им, а тем более вести себя так, как будто это случилось» [6, с. 288].
И все же И. Кант давал надежду, что с возрастом человек приближается к мудрости. Развивая его идею, следует констатировать, что накопление опыта происходит зачастую помимо воли и желания человека. Этот процесс идет естественным путем, но от человека зависит, насколько он сам захочет и сумеет сделать опыт предметом своей рефлексии, осмыслить и оценить его. Если он сможет сознательно использовать накопленный опыт для собственного блага и пользы всех, передавая его другим, то такой человек имеет шансы стать мудрым наставником. Причем его ценность в обществе может быть признана многими. Иной вариант делает накопленный опыт бесполезным и превращает в тягостный груз, лишь напоминающий о прошлом. Так определяется мера его возраста.
Благодаря активности, задающей жизненный ритм, человек обретает духовное здоровье, выражающее наличие внутренней дистанции между пережитым конкретным человеком и его поколением, ходом исторических событий и постигнутым смыслом данного мгновения. Старость дает возможность обретения человеком нового духовного состояния - духовной зрелости. В связи с этим она обретает высшую ценность, в отличие от других возрастов жизни, проходя через которые человек устремляется именно к ней, быть может даже и не осознавая ясно и явно самого этого движения, не отдавая себе в этом отчета.
Почтенное, уважительное отношение к старости - это не чей-то запрос или внешняя установка, а объективный показатель непрерывности, связности исторической судьбы народа на любом этапе его жизни. Нет поколений святых и праведников или злодеев и преступников - они всегда отдельные люди. Поэтому образ старости несет важнейшую социокультурную нагрузку единства поколений, всепримиряющую ее составляющую, момент «прощения грехов и следования мудрым заветам».
В пожилом возрасте неминуемо происходят статусно-ролевые изменения: переход к жизни пенсионера или вдовца (вдовы), приспособление к ухудшению здоровья, утрата власти, ответственности и автономии и т. п. Вместе с тем выход на пенсию может означать появление свободного времени, которое человек вправе посвящать своим увлечениям. Более того, человек редко освобождается от всех ролей в одинаковой степени. Психологическая свобода и освобождение от социальных ролей могут не совпадать. Объем независимости индивидуален, так же как и субъективные характеристики возраста. Зачастую «вкладываемый в события или изменения статуса смысл является более важным, чем сами эти события, - кто-то видит в этом сигнал конца своей полезности, а кто-то рассматривает изменение своего статуса с точки зрения новых возможностей» [7, с. 726].
Действительно, более свободный образ жизни с небольшим количеством обязанностей может считаться одним из преимуществ старости. Однако «старый человек часто застревает в промежуточном состоянии, которое может ощущаться как поворотный момент в жизненном пространстве личности, содержать в себе ценнейшую возможность личностного роста через реализацию некоего обучающего потенциала» [8, с. 62-63].
В жизни пожилых людей сегодня существуют две наиболее значимые переменные, обусловливающие социально-психологическое состояние удовлетворенности: состояние здоровья и уровень дохода. Как правило, у пожилых они существенно снижаются по сравнению с людьми других возрастов. Эти переменные являются важнейшими составляющими качества жизни и показывают имплицитные (скрытые) возможности статуса. Удовлетворенность жизнью в старости во многом зависит от оценки прошлого, настоящего и будущего состояний, связана с социальным окружением и опытом повседневной деятельности, включая межличностные и семейные взаимодействия. Не менее важна для пожилых и степень самоуважения, которая напрямую связана с социальнопсихологическими составляющими опыта. Мнения и представления пожилого человека об уровне своего успеха в межличностном взаимодействии обусловливают уровень самоуважения. «Статус достижения» имеет смысл успеха или неуспеха. В целом степень удовлетворенности своей жизнью влияет на физиологическое и психологическое состояние пожилого человека.
Главная социокультурная проблема, беспокоящая пожилых людей, - поиск смысла прожитых лет. Поиск смысла жизни актуален для всех возрастов - это стремление обрести надличностную ценность высшего порядка. Без ее понятия, стремления к ней жизнь человека потеряла бы всякий смысл. Отсюда объективно вытекает стремление человека к максимальным действиям. Инстинкт жизни диктует человеку необходимость действовать в полную силу своих возможностей, реализовать их. Надличностная ценность есть не что иное, как духовность. Важнейшим условием и формой активности самосознания является познание человеком своей духовной сущности, создаваемой с помощью коммуникации. Нравственная составляющая духовности, проявляемая в социальном поведении, свидетельствует о состоянии духовного мира человека или его дисфункции. Исходя из этого выделяется продуктивное проявление старости - творческая активность, когда человек преклонного возраста продолжает интересоваться общественной жизнью, воспитанием молодых, жить полноценной жизнью.
Условно можно выделить следующие задачи старшего возраста:
– самоопределение;
– трансценденция тела и эго или поглощенность ими [9, с. 219].
Задача самоопределения возникает, как правило, в двух случаях: из-за перехода на пассивную работу или ухода детей из дома. Стремление уйти за пределы психофизиологических проблем приводит к избеганию концентрации внимания на физических недугах старости, мыслях о смерти. Люди преклонного возраста пытаются переключиться на познание и культуру, продолжение профессиональной жизни, опеку внуков, накопительство, отдых и радость от жизни в настоящем, религию или лечение своих болезней.
Смысл жизни человека пожилого возраста в целом есть ретроспективная оценка своей жизни – с чувством несоответствия жизни идеалу, невозможности апробировать другие стили жизни или с ощущением удачного воплощения планов и реализации целей, приятия прошлого.
Однако радикальные изменения российского общества существенно обострили проблему поиска смысла прожитых лет у современных пенсионеров, молодость и зрелость которых проходили в СССР. Ситуацию усугубили и качественные изменения установок и стереотипов, связанных с пожилым возрастом. В первую очередь это связано с социально-экономическими и политическими преобразованиями, повлекшими за собой: сдвиги в структуре потребностей и рынка труда; уменьшение числа людей, занятых в сфере непосредственного материального производства; смену этики «продуктивности» императивом «качества жизни»; расширение сферы профессиональной деятельности для пожилых; исчезновение стереотипа пожизненной профессиональной карьеры; чередование периодов профессионального труда, активного досуга, образования и смены видов социально полезной деятельности в процессе жизни [10, с. 229].
Проблема содержания жизни, ее событийного наполнения у современных российских стариков преломляется через призму адаптации к рыночным отношениям при наличии довольно обширного советского жизненного опыта. Причем эта адаптация идет на фоне осуществившегося развития личности. Советский опыт у них является преимущественно позитивным, но ведет себя инертно, лишая пенсионеров части возможностей для жизненного маневра. В этой ситуации для сохранения состояния психоэмоциональной и духовно-нравственной устойчивости при быстро меняющихся внешних условиях необходимо сменить ценностную картину мира – «предать самого себя», на что большинство пожилых людей никогда не пойдут. Игнорирование этого факта может на уровне социума повлечь за собой разрыв межпоколенных связей, а на уровне отдельных личностей либо привести к психопатологии, либо обернуться духовно-нравственным дискомфортом и постоянным ощущением, описанным Н. Гумилевым следующим образом: «…Мы живем, не чуя под собой страны».
Однако любое общество, независимо от формы его организации, чтобы конкурировать в современном мире, должно вовлекать в активную деятельность весь свой человеческий потенциал, в том числе и людей пожилого возраста. Специалистами замечено, что активная, особенно интеллектуальная, деятельность способствует долгому сохранению личности. При этом коммуникация и духовность выступают качественными характеристиками сознания и одновременно являются продуктом жизнедеятельности человека.
Таким образом, проблема смысла жизни в старости стоит особо остро в современной России, что свидетельствует о характере самих реформ. Отношение к феномену старости всегда являлось одним из важнейших показателей социокультурного развития общества. Формируя пути выхода на новые формы культуры, видимо, не избежать корректировки смысла жизни в российском обществе, который даст субъекту возможность пережить собственную глубину, выявить единство людей, которое трансформируется в некий духовный синтез. В этом процессе духовность личности и социума, взаимодействуя, образуют духовно-нравственную жизнь общества. В ее основе лежит комплекс исконно российских ценностей, таких как духовное самосовершенствование, разумная созидающая деятельность, милосердие, терпимость. Духовность в России неминуемо будет развиваться как главный социальный продукт. Это в свою очередь предполагает подъем на новый уровень межпоколенного диалога культур и мировоззрений, способствующего нравственной ответственности по отношению к другому, любви к ближнему и др. Носителем этих социальных форм может быть только сформировавшаяся личность. По нашему мнению, это будет пожилой человек, включенный в систему социальных отношений посредством активной предметной деятельности и общения. Нельзя не согласиться с тем, что и в третьем возрасте у человека должны быть цель и смысл жизни, иначе жизнь превращается в абсурд, в собственное отрицание: «Жизнь еще не закончена, а жить уже нечем и незачем».
Ссылки:
-
1. Ортега-и-Гассет X. Что такое философия? М., 1991. 411 с.
-
2. Ортега-и-Гассет X. Дегуманизация искусства и другие работы. Эссе по литературе и искусству : сборник : пер. с исп. М., 1991. 639 с.
-
3. Бэкон Ф. Сочинения : в 2 т. Т. 2. М., 1978. 566 с.
-
4. Ильин И.А. Поющее сердце. Книга тихих созерцаний. М., 2012. 320 с.
-
5. Рыбакова Н.А. Проблема старости в европейской философии: с античности до современности. СПб., 2006. 288 с.
-
6. Кант И. Трактаты и письма / пер. с нем. Н. Вальденберг [и др.]. М., 1980. 700 с.
-
7. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. 9-е изд. СПб., 2005. 940 с.
-
8. Интегрированная старость: практики социального участия : коллектив. моногр. / М.Э. Елютина [и др.] ; ред. М.Э. Елютина. Саратов, 2007. 254 с.
-
9. Емалетдинов Б.М. Возрастная динамика смысла жизни человека // Вестник Башкирского университета. 2007. Т. 12, № 3. С. 215–219.
-
10. Овсянников В.П. Россия и Запад в контексте глобальных перемен // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2014. № 2 (30). С. 224–231.
Список литературы Проблема смысла жизни в старости
- Ортега-и-Г ассет X. Что такое философия? М., 1991. 411 с
- Ортега-и-Гассет X. Дегуманизация искусства и другие работы. Эссе по литературе и искусству: сборник: пер. с исп. М., 1991. 639 с.
- Бэкон Ф. Сочинения: в 2 т. Т. 2. М., 1978. 566 с.
- Ильин И.А. Поющее сердце. Книга тихих созерцаний. М., 2012. 320 с.
- Рыбакова Н.А. Проблема старости в европейской философии: с античности до современности. СПб., 2006. 288 с.
- Кант И. Трактаты и письма/пер. с нем. Н. Вальденберг . М., 1980. 700 с.
- Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. 9-е изд. СПб., 2005. 940 с.
- Интегрированная старость: практики социального участия: коллектив. моногр./М.Э. Елютина ; ред. М.Э. Елютина. Саратов, 2007. 254 с.
- Емалетдинов Б.М. Возрастная динамика смысла жизни человека//Вестник Башкирского университета. 2007. Т. 12, № 3. С. 215-219.
- Овсянников В.П. Россия и Запад в контексте глобальных перемен//Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2014. № 2 (30). С. 224-231.