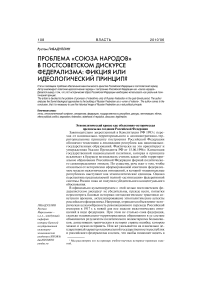Проблема "союза народов" в постсоветском дискурсе федерализма: фикция или идеологический принцип?
Автор: Гибадуллин Рустам Марсельевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 6, 2010 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме обеспечения межэтнического единства Российской Федерации в постсоветский период. Автор анализирует советские идеологические подходы к построению Российской Федерации как «союза народов». Делается вывод о том, что этот исторический образ Российской Федерации необходимо использовать как реальный политический принцип.
Этнос, этнополитический конфликт, сепаратизм, федерация, государственность республик, дискурс, легитимация
Короткий адрес: https://sciup.org/170165375
IDR: 170165375
Текст научной статьи Проблема "союза народов" в постсоветском дискурсе федерализма: фикция или идеологический принцип?
Законодательно закрепленный в Конституции РФ 1993 г. переход от национально-территориального к административно-территориальному принципу построения Российской Федерации обозначил тенденцию к ликвидации республик как национальногосударственных образований. Фактически на это ориентирует и утвержденная Указом Президента РФ от 15.06.1996 г. Концепция государственной национальной политики, которая в принципе исключает в будущем возможность считать какое-либо территориальное образование Российской Федерации формой политического самоопределения этносов. По существу, речь идет о том, чтобы отказаться от исторически сформированной советским федерализмом модели межэтнических отношений, в которой «национальные республики» выступают как этнополитические единицы. Однако перспектива предполагаемой полной «деэтнизации» федеративной системы России пока не получила убедительного концептуального обоснования.
В официально культивируемом с этой целью постсоветском федералистском дискурсе1 не убедительны, прежде всего, попытки пересмотреть базовые историко-методологические трактовки советского времени, актуализировавшие этнополитические аспекты российского федерализма. Например, отрицается объективно-историческая целесообразность революционного перехода Российской империи в 1917 г. к новой для нее модели межэтнических отношений в виде федерации. При этом не столько сама федерация, сколько национально-территориальные образования в ее составе объявляются результатом политического волюнтаризма большевиков, допустивших трагическую в истории страны ошибку, которую можно и нужно исправить. Или же указывается на изначально декларативный характер национальной государственности республик и российского федерализма в целом, что якобы позволяет видеть в них лишь некую идеологическую фикцию, созданную большевизмом в популистских целях и поэтому не имевшую далеко идущих этнополитических последствий, с которыми сегодня следует считаться.
В этой связи возникает необходимость уточнить этнополитическое содержание российского федерализма. На протяжении всей истории Российской Федерации оно связывалось с преодолением этнополитического кризиса в Российской империи, проявлявшегося в сепаратизме нерусских этносов, их стремлении к самоопределению и равноправию с русским этносом. Так, видный советский государствовед И.Д. Левин подчеркивал, что выбор большевиками для революционной страны федеративной модели был обусловлен исключительно кризисом во «взаимоотношениях между бывшей господствующей и ранее угнетенными нациями»1. Хотя следует отметить, что одна важная сторона этого этнополитического кризиса, составлявшая его глубинное противоречие, часто упускалась из виду советскими авторами. В раскрытии сути кризиса они делали акцент на проводившейся царизмом политике «национального угнетения», которая, осуществляя социально-экономическое и этнокультурное подавление «инородцев», провоцировала их сепаратизм. При этом неизменно игнорировались идеологические истоки этого сепаратизма, связанные с тем, что «инородческие» общества имели собственные, подчас неприемлемые для империи представления об идеологической легитимности государственной власти.
Конфликт «инородцев» с империей, вторгавшийся в сферу государственной идеологии, в некоторых регионах был усугублен особыми историческими обстоятельствами, как, например, в Волго-Уралье, где сталкивались две культурноидеологические традиции – «великорус-ско»-православная и тюрко-мусульманская. С позиции мусульманского мировоззрения функционировавшая в крае императорская власть не воспринималась как легитимная. Российский император, исторически обосновывавший здесь свою власть включением в свою титулатуру и геральдику «короны царства Казанского» и на этом основании выступавший как «царь казанский», в принципе не мог вос- приниматься местным мусульманским населением в таком качестве, т.е. как законный преемник истинных владетелей казанского трона – султанов, поскольку в соответствии с мусульманским каноном о разделении мира на «Дар аль-Ислам» («Мир ислама») и враждебный ему «Дар аль-Харб» («Мир войны») православный государь мог быть отнесен лишь к последнему. Это придавало колониальный характер отношениям «инородцев»-мусуль-ман с российской властью, юрисдикцию которой над собой они вынуждены были признавать, но которую они никогда не считали властью «своей».
В современной учебно-исторической литературе в соответствии с идеологизированной историографической традицией проблема легитимности власти русских царей в глазах завоеванных ими волго-уральских мусульман обычно откровенно замалчивается. Даже в тех редких случаях, когда авторы подчеркивают ключевую роль завоевания Казанского царства в складывании многонационального характера Российского государства и признании русским населением его власти как «царской», вопрос об отношении к ней мусульманского населения, который в данном случае, казалось бы, напрашивается сам собой, даже не ставится2.
С этой точки зрения становится понятным, почему этнополитическое значение революции 1917 г. следует видеть не только в устранении «национального угнетения», но и в решении более существенной для сохранения единства страны проблемы – обеспечении идеологической легитимности центральной власти в глазах «инородцев». Последнее было достигнуто благодаря созданию приемлемой для них новой концепции межэтнического единства, которую стала воплощать собой центральная власть.
«Свободный союз свободных наций» как историческая основа
Российской Федерации
Крушение царизма в ходе революции 1917 г. впервые превратило проблему единства полиэтничного российского го- сударства в предмет межэтнического диалога. С ликвидацией монархии навсегда исчез полуфеодальный институт идеологической легитимации межэтнического единства, основанный на личной унии самодержца с народами, которая носила характер патриархально-договорных отношений государя со своими подданными и запечатлевалась в его многочисленных титулах. В новых условиях политикоправовая связь между народами перестала быть опосредованной личностью монарха. Межэтническое взаимодействие, сделавшись прямым и непосредственным, объективно приобретало характер общественного договора.
Однако реализовать созданную революцией возможность перехода к договорной модели межэтнических отношений можно было лишь выработав необходимую для этого интегративную идеологию, которая должна была, основываясь на принципах самоопределения и равноправия наций, ценностно обосновать в их глазах целесообразность объединения. В отличие от Османской и Австро-Венгерской империй, Россия сумела избежать распада, в конечном счете, именно благодаря выработке такой идеологии, позволившей центру погасить национально-освободительный сепаратизм этнических окраин и предстать для них инициатором межэтнического «общественного договора». Его революционным выражением стала идея солидарности народов и их добровольного и равноправного государственно-политического объединения во имя совершения глобальных социально-исторических преобразований.
Такая беспрецедентная в истории России формула межэтнического единства, идеологически легитимировавшая в массовом сознании советский федерализм, официально культивировалась в общественно-политической сфере, широко пропагандировалась через соответствующие документы КПСС и массовые издания. Однако, играя важную идеологическую роль уже в процессе образования РСФСР, она не получила практического воплощения в виде договорной федерации. Это и позволяет сегодня некоторым историкам-правоведам говорить об отсутствии юридических оснований для того, чтобы видеть в Российской Федерации межэтнический союз, инициированный титульными этносами республик. Например, Л.А. Стешенко отмечает, что РФ исторически сформировалась как федерация автономий, а не как договорная федерация, поскольку она «юридически была провозглашена раньше, чем на ее территории возникли первые члены федеративного государ-ства»1. На те же формально-юридические обстоятельства указывает М.В. Баглай, отвергая «необоснованное предположение, будто РФ является объединением, получившим полномочия из рук независимых республик, что противоречит историческим фактам, ибо автономии, из которых выросли республики, были созданы Российским государством»2. Тем не менее в абсолютном большинстве историко-правовых работ присутствует прямое или косвенное признание того, что вызванная к жизни революцией идея «добровольного и равноправного союза народов» изначально определяла если не букву, то дух российского федерализма.
Эта идея исторически утвердилась как конституирующий Российскую Федерацию политико-правовой и идеологический принцип. Первым шагом к этому стала Декларация прав народов России от 17.11.1917 г., в которой советское правительство целью своей национальной политики провозгласило достижение «добровольного и честного союза народов России» на основе признания их равенства, суверенности и права на самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельных государств3. Эти принципы получили законодательное закрепление в принятой iii Всероссийским съездом Советов в январе 1918 г. Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа, где было зафиксировано, что Российская республика «учреждается на основе свободного союза свободных наций, как федерация национальных советских республик». Декларация в течение определенного времени выполняла функцию конституции и позже целиком была включ ена в Конституцию РСФСР
1918 г.1 Провозглашенный революцией принцип добровольности участия в федерации, предполагавший право республик на свободный выход из нее, получил законодательное выражение в пункте «д» ст. 49 Конституции РСФСР 1918 г. в виде упоминания о правовых механизмах и о самой возможности «признания выхода из Российской Федерации отдельных частей ее»2. Хотя в дальнейшем признание этого права как базовый принцип советского федерализма сохранялось лишь применительно к СССР и лишь в отношении союзных республик.
Таким образом, можно говорить о революционном самоопределении России в форме «федерации национальных республик». Оно получило окончательное закрепление в ст. 2 Конституции РСФСР 1918 г.3 и было подтверждено в ст. 2 Конституции РСФСР 1925 г.4 В этой связи законодательное оформление получил также, хотя и не сразу, политико-правовой статус этносов как государствообразующих субъектов. Достаточно аморфная формулировка об их праве на «выделение» в автономные республики и области, содержащаяся в ст. 13 Конституции РСФСР
1925 г., была заменена в новой редакции 1929 г. более существенным указанием на то, что национальности, населяющие РСФСР, оформляют свою государственность на основе права наций на самооп-ределение5.
Все эти факты так или иначе приводятся в современных изданиях. Это означает косвенное признание того, что Российская Федерация, исторически возникнув на основе идеи «свободного союза свободных наций» как «федерация национальных советских республик», представляла собой необходимый и увенчавшийся успехом шаг к преодолению кризиса межэтнического единства страны. Впрочем, некоторые авторы, отрицающие целесообразность существования республик как этнополитических единиц, но вынужденные соглашаться с тем, что изначально узаконившая их именно в таком качестве в своем составе «РФ возникла в силу определенных исторических причин», все же пытаются утверждать, что «эти причины в наше время потеряли смысл»6. Однако если мы вспомним суть межэтнического кризиса Российской империи, то становится ясно, что идея разрешившего его межэтнического «общественного договора» сохраняет по сей день свое историческое и политическое значение для Российской Федерации как основа идеологической легитимности ее межэтнического единства.