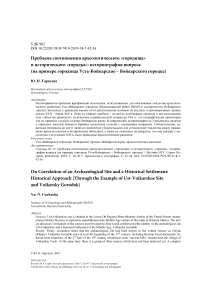Проблема соотношения археологического "городища" и исторического "городка": историография вопроса (на примере городища Усть-Войкарское - Войкарского городка)
Автор: Гаркуша Юрий Николаевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: История науки, новые методы исследований
Статья в выпуске: 7 т.18, 2019 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается проблема верификации источников, использованных для обоснования тождества археологического памятника Усть-Войкарское городище (Шурышкарский район ЯНАО) и исторического Войкарского городка. Бытующее у краеведов мнение об их расположении основано на скудных и противоречивых данных начала XVII - конца XIX в. Одна из главных проблем - не всегда достоверные сведения о местоположении этих «объектов древности», изложенные в краеведческой литературе XIX в., где географическим ориентиром для их привязки служило селение Войкарские юрты. В современной историографии не учитывалось наличие у коренных жителей Нижнего Приобья нескольких селений с одинаковым названием. Соответственно, известные материалы не могут являться достаточно убедительными для установления тождества между названными археологическим и историческим объектами, а также не позволяют подтвердить, что они связаны с местностью, где в начале ХХI в. были проведены археологические раскопки.
Усть-войкарское городище, войкарский городок, войкарские юрты, археологические раскопки
Короткий адрес: https://sciup.org/147220151
IDR: 147220151 | УДК: 902 | DOI: 10.25205/1818-7919-2019-18-7-42-56
Текст научной статьи Проблема соотношения археологического "городища" и исторического "городка": историография вопроса (на примере городища Усть-Войкарское - Войкарского городка)
Отождествление археологического «городища», обнаруженного вблизи современной дер. Усть-Войкары (Шурышкарский р-он ЯНАО), и исторического «Войкарского городка» было предпринято еще до начала полевых работ на памятнике Объект входил в круг аборигенных средневековых «городков», выполнявших функции различных по своему назначению локальных центров для коренного населения севера Западной Сибири (см., например: [Шашков, 2002; Перевалова, 2004. С. 214; Перцев, 2017]).
Подтверждение поселенческого статуса масштабного археологического объекта, полученное уже в первом сезоне раскопок, и наличие сведений, пусть и скудных, но свидетельствующих в пользу присутствия в Средневековье в окрестностях р. Войкар (левобережного притока Оби) значимого населенного пункта, укрепило мнение первых исследователей «городища» о правомерности такой исторической интерпретации. Тем самым археологическому объекту сразу была придана, по меткому замечанию А. Т. Шашкова, «историческая статус-ность» [2002. С. 240].
Признание научным сообществом предложенной трактовки (см., например: [Брусницына, 2000. С. 38; Перцев, 2017. С. 106]) отодвинуло необходимость критического осмысления имеющейся информации об истории и местоположении исторического «городка». Цель публикации – обзор историографических источников, в определенной мере позволяющих восполнить этот пробел.
Результаты исследований и обсуждение
Наиболее ранними из известных источников, где упоминается, по мнению исследователей, Войкарский городок, являются сведения Г. Ф. Миллера, приведенные в связи с ранней историей г. Березова. Историк сообщал о походе «из Березова в низовья реки Оби против остяцкого городка Вой-карра, откуда привели в город несколько пленных. Это место расположено на левом берегу Оби, в 18 верстах ниже Асс-пугля, и до сих пор еще населено остяками. Туда приходят иногда самоеды со своими чумами, чтобы пожить некоторое время в этой местности. Остяки были уже вполне покорены, а самоеды только недавно обложены ясаком» 1 [Миллер, 1999. С. 280]. Необходимость проведения военной операции против удаленного городка была вызвана, по мнению Г. Ф. Миллера, проявлением коренными жителями недовольства проводимой фискальной политикой. Свою версию событий он привел в первом русскоязычном «Описании Сибирского царства» (из поздней редакции его размышления на эту тему были исключены. – Ю. Г.): «Разве тамошние остяки еще не все в дань положены были; или от новаго города более строгости почувствовали, нежели от прежняго Березовскаго острога, что они тем к непокорству подвигнулись; или сей поход больше касал- ся против самояди, из которых тогда первые в ясак положены, когда остяцкой крайней городок Обдорской утвержден под Российскою державою» [Миллер, 1750. С. 258].
Представление исследователем альтернативных суждений о причинах этого события позволяет предположить, что они, скорее, основывались на сложившихся у него взглядах об особенностях этого периода истории на севере Западной Сибири, чем имели под собой документальную основу. Сведения о пленниках почерпнуты Миллером из грамоты 1601 г., где рассматривалась тяжба между остяком Степаном Пуртеевым и остяцким князем Шатровым Лугуевым. Инцидент относится к 1595 г. и связан с побегом от Пуртеева к князю трех жен, одна из которых куплена из «Воикарсково полону» [Миллер, 1999. С. 387].
Относительную хронологическую близость к сообщениям Г. Ф. Миллера имеют сведения, изложенные в «Книге Большому Чертежу» (далее – КБЧ), составленной в 1627 г. на основе целого ряда картографических источников XVI в. В разделе «Река Обь великая» указаны «от устья вверх Обдорские городы», среди которых упоминается топоним с интересующим нас формантом: «А от Носового 70 верст, с правой стороны Оби, город Ирка. А от Ирка вверх 40 верст Воикар или Ноцкои. А выше Воикара Уркар или Белои» [КБЧ, 1950. С. 168].
Существенные сведения представлены на чертежах С. У. Ремезова, аккумулирующих данные по географии, истории, этнографии Сибири на конец XVII – начало XVIII в. Здесь отмечены долина р. Войкар и указан ряд топонимов, содержащих соответствующий формант. Однако ойконим «Войкарский городок» присутствует только на одном чертеже «Хорографической чертежной книги» (далее – ХЧК) – наиболее полном из составленных им атласов, работа над которым велась в 1697–1711 гг.
В ХЧК долина р. Войкар присутствует в разделе, посвященном описанию речных систем Сибири, и в разделе, где представлены копии чертежей, выполненных по царскому указу в разные годы. В первом разделе на л. 117 (глава 28 «Обь») отмечена р. Войкар, левобережный приток Оби. В среднем и нижнем течении притока, по обоим берегам, обозначены три населенных места; два из них не имеют названий. Одно из мест на левобережье Войкара, в нижнем течении, имеет не поддающуюся интерпретации надпись, приведенную в комментариях к атласу, как «в. Вошкорска». В нижнем течении притока, но на правом берегу, показан «Войкарский городок» [ХЧК, 2011. Кн. 1. С. 117; Кн. 2. С. 129].
Далее долина р. Войкар («Р. Воикарская») представлена на л. 167 «Чертежь грани Березова города с уездами до моря». Обращают на себя внимание значительные отличия второго чертежа от первого в части, относящейся к притоку Оби. Так, на л. 167 между устьем Войка-ра и Обью показано оз. Войкарский Сор. В среднем и верхнем течении Войкара обозначены два левобережных притока. Исчез ойконим «Войкарский городок», на участке, соответствующем северному побережью озера, появились «Воикарские юрты». Обозначение нового населенного пункта (н. п.) сопровождалось надписью: «Воикарские (ю.) < юрты > до г(орода) < Березова > вод(ным), з(имним) 8 дней х(оду)». В верховьях реки обозначены «самоецки чю-мы»; вместе с тем населенных мест указано меньше [ХЧК, 2011. Кн. 1. Л. 167; 2011. Кн. 2. С. 190].
Ситуация в долине Войкара, зафиксированная на л. 167, практически без изменений нанесена на «Чертеж земли Березовского города» из «Чертежной книги Сибири» (далее – ЧКС) 1701 г. Новшеством стало появление на карте н. п. «Воикарковы юрты» («На острову до Об-дорского городка 2 дня»), расположенного на одном из островов в устье Оби [ЧКС, 2003. Т. 1. Л. 8; Т. 2. С. 76].
Долина р. Войкар нанесена также на «Чертеж всех Сибирских городов и рек и земель». Отображенная ситуация отличается отсутствием населенных пунктов, бо́ льшим количеством притоков и иным их расположением; Сор не изображен. Иначе показана и этническая ситуация: вся долина Войкара обозначена как место проживания остяков [ЧКС, 2003. Т. 1. Л. 21].
В последнем из серии атласов, связанных с деятельностью С. У. Ремезова, – «Служебной чертежной книге» (далее – СЧК), особенности нанесения на чертеж долины Войкара, представленной на «Чертеже земли Березова города», соответствуют тому, что изображено на л. 8 ЧКС и л. 167 ХКС [СЧК, 2006. Л. 55].
Важным источником по исторической топонимии края является географическое исследование Г. Ф. Миллера «Описание низовьев реки Оби и впадающих в Обь рек от места ее разделения на Большую Обь и Малую Обь (о которой упомянуто в описании путешествия в Березов) вниз по течению. Из устных известий. 1740 г.», в котором, наряду с описанием гидрографической сети Нижнего Приобья, фигурирует и список населенных мест, известных к началу второй трети XVIII в. и приуроченных к долинам упоминаемых рек. Среди таковых вновь фигурирует н. п. «Войкарра», расположенный на левобережье Малой Оби: «Войкарра, или Войкарский городок, по-остяцки Ai-wasch, по-самоедски Jóta-garden, на левом берегу, в 2–3 верстах ниже устья предыдущей названной по нему реки. Раньше был остяцкой крепостью и сейчас еще здесь живет много остяков, которые относятся частью к Куновацкой и частью к Обдорской волости» 2 [Сибирь XVIII века..., 1996. С. 256].
Важными источниками по ойконимии севера Западной Сибири XVII–XIX вв. являются статистические документы, содержащие сведения о составе коренного населения, в которых приводятся списки населенных мест в соответствии с принятым административно-территориальным делением: ясачные книги и материалы переписей.
Согласно ясачным книгам, Войкарский городок, наряду с Обдорском и Юильским, значился местом, где на протяжении XVII в. платили ясак обдорские, иногда пустозерские самоеды. В таком качестве городок упоминался и, например, в 1712 г. [Долгих, 1960. С. 68, 72].
По мнению С. В. Бахрушина, ясачные книги свидетельствуют, что Войкарский городок Обдорской волости являлся местом ярмарки, куда «по первому зимнему пути березовская и пустозерская самоядь к ясачным остякам приезжают»; это позволило ему считать городок обладающим в XVII в. «довольно крупным значением» [Бахрушин, 1935. С. 13, 62].
По материалам 4-й ревизии (1782 г.) В. Г. Бабаковым установлено, что городок, числившийся в составе Обдорской волости Березовского уезда, входил в ограниченное число населенных пунктов волости, к которым были приписаны, преимущественно, крещеные ханты [Бабаков, 1976. С. 102]. По данным той же ревизии остяки Обдорской волости были причислены к 12 городкам, среди которых значился и Войкарский; он же фигурирует в материалах 5-й (1795 г.) и 7-й (1816 г.) ревизий. Но, по данным 10-й ревизии (1858 г.), «городки», за исключением Обдорского и Надымского, были записаны уже как «юрты» [Перевалова, 2004. С. 171, 330; Мартынова, 1998. С. 83].
Привлекая материалы по Куноватской волости середины – конца XVII в., следует опираться на работу Б. О. Долгих о родоплеменном составе народов Сибири, где Войкарский городок упомянут в составе данной волости [Перевалова, 2004. С. 173]. Однако Б. О. Долгих, изучая данные по Березовскому уезду, в цитируемой работе не указывал волостную принадлежность городка. В конце XVIII в. в Куноватской волости зафиксировано 10 городков, но Войкарский среди них не значился. В начале второй половины XIX в. (по данным 9-й ревизии) в составе волости появились Войкарские юрты, которые были выделены, наряду с Ня-нинскими, из Кееватского городка [Там же. С. 173, 337].
Таким образом, данные переписей, согласно сведениям, приведенным Е. В. Переваловой, показывают существование и в определенные периоды сосуществование на севере Нижнего Приобья нескольких ойконимов с интересующим нас формантом.
Исследователь предложила следующим образом разграничить места расположения упоминаемых населенных пунктов, в название которых включено слово «войкарские»: «Юрты Войкарские Куноватской волости располагались по р. Малая Обь, Войкарский городок Об-дорской волости – в устье р. Войкар» [Перевалова, 2004. С. 173]. Однако эти рекомендации не в полной мере соответствуют приведенным ею же сведениям.
Вероятно, со второй половины XIX в. начал формироваться интерес к «городкам» как объектам древности, связанным с историей коренного населения севера Западной Сибири. Известный краевед Н. А. Абрамов привел перечень «древних остяцких городков», расположенных на территории Березовского округа, но без каких-либо комментариев. В числе 12 «городков» Обдорской волости назван и Войкарский, расположенный в 198 верстах от окружного центра [Абрамов, 1857. С. 388].
По всей видимости, первым известием о «древностях» в окрестностях Войкарских юрт, дающим некоторое представление об их состоянии и местоположении, можно считать упоминание известного тобольского краеведа К. М. Голодникова. В подготовленную им сводку объектов археологии Тобольской губернии были включены и весьма скупые данные по Березовскому округу. Он отмечал, что «в Куноватской волости находятся два бугра или кургана; первый Войкарский, имеющий окружность в 90 саженей и высоту в 5 саженей 3 с грунтом полупесчаным. Бугор этот находится по течению р. Малой Оби, на левой стороне ее, подле Сора Няпчи-Лор 4, у самых Войкарских зимних юрт, на большой трактовой дороге, в раз-стоянии от с. Мужи около 30 верст: на бугре этом ям и камней нет; шурфов также не видно. Второй – Шурумкарский…» [Голодников, 1879. С. 16].
Эти данные были воспроизведены в разделе «Остатки древних городов и городищ в Березовском округе» справочного издания «Памятная книжка Тобольской губернии на 1884 год», одним из основных составителей которого являлся К. М. Голодников. Здесь можно найти подтверждение тому, что правомерно связывать с его именем авторство первых сведений об объектах «старины» в окрестностях упомянутых юрт. В начале раздела сказано, что представляются «совершенно новые» сведения об остатках «древних городищ» округа, «существование которых в отдаленном и малолюдном крае до сих пор было мало кому известно». Например, в «Списке населенных мест Тобольской губернии по состоянию на 1868–1869 годы» в разделе «Курганы и городища», в части посвященной древностям Березовского округа, данные памятники не фигурируют [Список населенных мест.., 1871. С. XC]. Описание здесь дополнено важной деталью, которая отсутствовала в первоначальном варианте: ям на нем нет, но следы строений заметны [Памятная книжка.., 1884. С. 75–76], что предполагает наличие каких-то их остатков.
К. М. Голодников мог получить такую детальную информацию непосредственно у жителей «Войкаровских юрт» во время их посещения, будучи там проездом на зимнюю Обдор-скую ярмарку в конце 1870-х гг. [Голодников, 1878. С. 2]. Но остается неясным, удалось ли ему лично посетить этот ландшафтный объект, учитывая сезон путешествия, или он ограничился сообщениями информаторов.
Существует и другое свидетельство о наличии объектов древности, приуроченных к н. п. «Войкарские юрты», полученное этнографом К. Д. Носиловым во время его поездки в Об-дорск осенью 1884 г. Он сообщает о неких «курганах», обнаруженных им на левом берегу Оби, местоположение и внешний вид которых характеризуется следующим образом: «В Вой-карских остяцких юртах, на берегу Оби, я наблюдал два имеющие связь кургана, вышиною до 20’ <футов>и длиною до 100’ или 140’ при ширине в 35’–45’ 5. Они имеют направление длинной оси с юга на север, поросли травой, а по местному известию, внутри себя имеют деревянные срубы для помещений и дверь с наружной стороны. Но дверь эту никто не знает где она, а следов ея уже никто давно не замечал» [Носилов, 1890. С. 567].
При сопоставлении двух сообщений обращают внимание принципиальные отличия между описаниями объектов, приведенными К. М. Голодниковым и К. Д. Носиловым. Также отметим, что упомянутые «бугор» и «курганы» еще не связываются с местом расположения одноименного «остяцкого» городка.
Вероятно, первым, кто счел возможным объединить «бугор» и летописный «городок» в один исторический объект, был известный сибирский краевед и ученый И. Я. Словцов. Однако основания для этого представлены не были. В подготовленном им перечне «памятников прошедшей жизни в Тобольской губернии» приводились урезанные сведения о «Войкарском бугре», почерпнутые из «Памятной книжки» 1884 г., на что указывал и сам составитель, но уже характеризующие его как «городок»: «Войкарский городок лежит по течению Малой Оби у Войкарских зимних юрт. Имеет окружность 90 сажен, вышину 5 сажен» [Словцов, 1890. С. 9]. Информация об административно-территориальной принадлежности объекта отсутствует.
Впоследствии С. В. Бахрушиным было допущено недоразумение при использовании сведений, собранных предшественниками: непонятным образом высота «городка» в 5 сажен трансформировалась в вал высотой 5 сажен, а сам «городок» превратился в «крепость»: «…это была небольшая крепость 90 саженей окружностью, защищенная валом пятисаженной высоты» [Бахрушин, 1935. С. 62]. Трактовка ученого была воспринята и некоторыми современными исследователями [Шашков, 2002. С. 244].
Следующее упоминание Войкарского городка связано с этапом развития краеведческого движения в Сибири, пришедшегося уже на первые годы советской власти. В 1925 г. в издании «Наш край», выпускаемом Тобольским обществом изучения края при музее Тобольского Севера, вышла статья, где поднимался назревший вопрос об инвентаризации «всех курганов и городищ» Тобольского округа. Приводимый список объектов, как указано во введении, основан на уже известных сведениях, опубликованных К. М. Голодниковым и И. Я. Словцовым: «Войкарский городок – по течению Малой Оби, левой стороне ее, у Войкарских зимних юрт. Имеет окружность 90 саж., вышину 5 саж., в 30 верст. от с. Мужи» [Убыткова и др., 1925. С. 33].
В 1953 г. увидела свет, по сути, первая археологическая карта Западной Сибири, подготовленная И. А. Талицкой, куда вошли памятники, известные и на территории современного ЯНАО. В сводку включен объект «Войкарский городок», сведения о котором представлены на основе текстов И. Я. Словцова и «Памятной книжки» 1884 г.: «Войкарский городок. Вой-карские зимние юрты Ямало-Ненецкого нац. округа Тюменской обл. (б. Куноватская вол. Березовского у. Тобольской губ.), устье р. Войкара – левого притока р. Горной Оби. <…> 65°40′; 64°30′» 6 [Талицкая, 1953. С. 247]. Характер изложения данных позволяет допустить, что И. А. Талицкая отождествила места расположения «городка» и «юрт». Но это входит в противоречие с исходными сведениями К. М. Голодникова, где указывается на некоторое пространственное разнесение населенного пункта и «бугра». В свою очередь, объекты, описанные К. Д. Носиловым, рассматриваются И. А. Талицкой как отдельный памятник. В то же время, как можно заключить из изложенного исследователем, «юрты Войкары» 7, близ которых расположены «курганы», и «Войкарские зимние юрты», где находится «городок», рассматривались ею как один и тот же населенный пункт [Там же].
Нечеткое изложение сведений об упоминаемых объектах в работе И. А. Талицкой, изначально воспринимаемых как разные, заложило основу для последующего некорректного толкования первоначальных сведений о них в контексте отождествления «городища» и «городка».
Первый свод археологических памятников, охватывающий всю территорию ЯНАО, был подготовлен к 1994 г. В этом издании впервые фигурирует памятник «Усть-Войкарское городище», расположенный в окрестностях пос. Усть-Войкар. Объект позиционируется как известный с конца XIX в., сообщается, что он «с тех пор неоднократно обследовался. Последний раз – Е. И. Кочеговым и Н. В. Федоровой в 1993 г.». Опираясь на работу И. А. Талицкой, еще до проведения стационарных исследований, памятник был отождествлен с Вой-карским городком [Косинская, Федорова, 1994. С. 58–59].
Археологические раскопки на городище были начаты в 2003 г. В публикациях о предварительных результатах связь с Войкарским городком была закреплена ссылками на КБЧ, исторические материалы Г. Ф. Миллера, сведения И. Я Словцова и К. Д. Носилова, а также на упоминание «городка» в материалах переписей конца XVIII – середины XIX в. [Брусницына, 2003. С. 45–48; Федорова, 2004. С. 106]. Один из первых исследователей памятника, Н. В. Федорова, тем не менее, отмечала вероятностный характер толкования историографических источников в пользу идентификации с «городком», хотя и «с большой долей уверенности» [2006. С. 11]. Как бы то ни было, научным сообществом предложенная трактовка была принята без оговорок.
Обращает внимание, что в группу источников, призванных обосновать тождество между «городищем» и «городком», включены сведения К. Д. Носилова, несмотря на их принципиальные отличия от данных К. М. Голодникова. При этом на археологической карте Ямала 1994 г. «курганы» и «городище / городок» были приведены как отдельные объекты [Косинская, Федорова, 1994. С. 61].
В такой ситуации актуальность приобретает вопрос: о каких Войкарских юртах идет речь в каждом случае?
Возникает необходимость хотя бы кратко рассмотреть случаи упоминания ойконима «Войкарские юрты», который регулярно встречается в различных изданиях, по крайней мере, со второй половины XIX в., учитывая его ключевую роль для современных исследователей в определении местоположения «городка» 8.
В сибиреведческой литературе термин «юрты» применительно к обозначению типа населенного пункта на севере Западной Сибири, трактуется как «селение, неукрепленное поселение». При этом не до конца ясным остается вопрос о том, какое же содержание вкладывали в понятие «городок» составители ревизских сказок. Основание для такой постановки вопроса можно обнаружить в сочинении Г. Ф. Миллера о сибирской истории. Описывая Куноватский городок, он отмечал, что в бытность его посещения Западной Сибири городок являлся уже заброшенным: «Городок Куноват легко отыскать… Остяки называют Кун-аут или Кун-авот высокий мыс, на котором стоял городок. Оттуда производят они Кун-аут-ваш, как прежнее название городка. Русские же называют его Куно-ват или Куноватское старое городище. Остатки его видны еще и сейчас…» [Миллер, 1999. С. 263]. В то же время в ревизских сказках данный ойконим фигурировал вплоть до середины XIX в. [Перевалова, 2004. С. 173, 338].
Считается, что после включения Северо-Западной Сибири в состав Российского государства у коренного населения отпала надобность в создании укрепленных поселений-«город-ков», так как внутренние междоусобицы пошли на спад [Мартынова, 1995. С. 83]. Тем не менее местная топонимия продолжала сохранять в своих названиях указания на оборонительную функцию и в отсутствие укреплений. О таких населенных пунктах письменные источники XVII в. сообщали: «…городу и острогу нет, только одне юрты» [Бахрушин, 1935.
С. 41]. Таким образом, принципиальные структурные отличия между «городками» и «юртами» в течение XVII в. должны были исчезнуть. Обращая внимание на неустойчивую практику в употреблении переписчиками XVIII в. упомянутых терминов, В. Г. Бабаков допустил, что она обусловлена именно отсутствием таковых отличий в восприятии статуса населенных пунктов составителями административных документов [Бабаков, 1976. С. 101]. Тем не менее, как показывает археологическое изучение Надымского городка, не все «городки» отказались от оборонительных сооружений; они существовали еще в конце первой трети XVIII в. [Кар-даш, 2009].
Приведем ряд примеров того, что во второй половине XIX – начале ХХ в. существовало по крайней мере несколько населенных пунктов, в названии которых фигурировало определение «войкарские».
Так, к 1912 г. в составе Куноватской инородческой управы Березовского уезда на земском тракте значились Войкарские юрты при р. Малая Обь. В то же время в составе Обдорской остяцкой волости значились Войкарские юрты при р. Малой Оби, но без каких-либо уточнений [Список населенных мест.., 1912. С. 570, 576]. Далее в этом издании можем найти информацию о том, что в составе той же Куноватской управы значились два населенных пункта под названием Кушеватские юрты, расположенные «при р. Кушеватской»; населенный пункт с таким же наименованием указан и в составе Ляпинской волости [Там же, С. 570, 572].
Такое положение дел было обусловлено сложившейся традицией формирования населенных пунктов у «инородцев» Нижнего Приобья. С. К. Патканов принципы формирования системы расселения остяцкого населения описывает следующим образом: «Обыкновенно из одного крупного зимнего селения летом образуется нисколько мелких, то последние, кроме своего собственного имени, иногда носят еще имя зимнего селения, в котором их жители проживают в холодное время года. Заметим еще, что остяцкие юрты данного округа часто меняют свое местоположение, делятся с течением времени на два или соединяются по 2–3 вместе, изменяя при этом и свои наименования…» [Патканов, 1911. С. 121].
Широко отражена ойкономия северной части Нижнего Приобья в различных документах, связанных с деятельностью Обдорской духовной миссии [Путевые журналы..., 2002; «И здесь появляется…», 2003; Из истории Обдорской…, 2004]. Часто упоминание населенных пунктов сопровождается информацией о составе населения, географическом положении, расстоянии до близлежащих населенных мест и т. п. Случаи упоминания Войкарских юрт отличаются географическим контекстом, что вновь актуализирует вопрос о том, какие именно юрты были названы как отправная точка для определения возможного места расположения Вой-карского городка.
Так, в отчетах Обдорской миссии за 1858 и 1882 гг. сообщается о посещении миссионерами «юрт Войкарских, или Няропсовых (в другом случае указаны «юрты Войкарские-Ня-ропсовы») 9 [«И здесь появляется…», 2003. С. 162, 166; Из истории Обдорской…, 2004. С. 150].
В путевом журнале священника миссии Александра Тверитина, где приводятся сведения о посещении им остяцких юрт (август – ноябрь 1867 г.), расположенных по Оби выше Об-дорска, присутствуют такие записи: «Мы поспешили в путь и в 8 часов утра были уже в Вой-карских юртах, где более 10 чумов инородцев, все крещенные. … Побеседовав с ними о разных предметах… я намерен немедленно отправиться вперед до устья реки Войкара – еще 75 верст…» [Путевые журналы…, 2002. С. 89]. Любопытную информацию мы находим у этого же автора далее, где говорится о скором возвращении из устья Войкара в юрты: «…в пять часов пополудни, приплыли в юрты Войкарские, сделав в этот день под парусом 60 верст» [Там же. С. 90]. В связи с этим напомним, что И. А. Талицкая в качестве географи- ческого репера для определения положения «городка» называла юрты, расположенные в устье р. Войкар.
Близкое к указанному расстояние от неких Войкарских юрт до р. Войкар (60 верст) мы находим в записках священника Иона Платонова о летней поездке 1866 г. [Путевые журналы…, 2002. С. 67].
В журнале священника Николая Герасимова сообщается о посещении им зимой 1870 г. юрт Войкарских (Ай-Важских); в другом месте этого повествования они же были названы малыми Войкарскими юртами, расположенными в устье р. Войкар, в отличие от больших, отстоящих от устья на 25 верст вверх по притоку [Там же. С. 133].
Разночтения в размещении «Войкарских юрт» присутствуют и в описании маршрутов экспедиций, посещавших долину р. Войкар на протяжении второй половины XIX – начала ХХ в. Так, Ю. И. Кушелевский, рассказывая о своих экспедициях 1862–1864 гг., юрты Вой-карские помещал на удалении от побережья Малой Оби, непосредственно в месте слияния Войкара и Войкарского Сора [Кушелевский, 1864. Вложенная карта].
В 1909 г. Обдорскую волость посетил С. И. Руденко. Среди населенных пунктов, приуроченных к побережью Оби, в левобережной приустьевой части р. Войкар указан и Войкар-горт, расположенный ниже с. Мужи, которому соответствуют также следующие названия: юрты Ай-вош, юрты Войкарские [Руденко, 1914. С. 14–15].
Судя по справочным изданиям второй половины XIX в., одни из Войкарских юрт были наделены «статусностью»: населенный пункт входил в сеть станций, распределенных по зимнему тракту на маршруте Березов – Обдорск. Именно в таком качестве упоминает их врач Ф. Ф. Белявский, описывая свою зимнюю поездку в Обдорск в 20-х гг. XIX в. Наряду с ойко-нимом «Войкар», он также употреблял «Вайкар», «Войкарт» [Белявский, 1833. С. 36, 49, 50].
Подробное описание земского (зимнего) тракта давал А. А. Дунин-Горкавич: от станции Мужи вниз по течению, в 35 верстах располагалась станция Войкарская – она находилась в зимних юртах с таким же названием, расположенных на левом берегу Малой Оби, на 1 версту ниже р. Войкар [Дунин-Горкавич, 1910. С. 259]. При этом вся долина р. Войкар находилась на территории Обдорской остяцкой волости [Дунин-Горкавич, 1904. С. 140].
Благодаря своей значимости именно зимние Войкарские юрты в устье р. Войкар неоднократно отмечались в справочных изданиях первых лет советской власти. Первый официальный список населенных пунктов Тобольского округа, изданный в 1926 г., сообщал, что на территории Мужевского сельсовета Обдорского р-на, на расстоянии в 45 верст от сельского центра «при р. М. Обь» располагалась станция Войкар в 3 двора [Список населенных пунктов.., 1926. С. 25].
В справочном издании «Населенные пункты Уральской области», подготовленном по материалам Приполярной переписи 1926–1927 гг., среди населенных пунктов Мужевского сельсовета, на расстоянии в 45 км от сельского центра, фигурировали юрты Устье-Войкар в 5 хозяйств, также ранее известные как Ста́нок Войкар, Войкарские юрты, «юрты Айвож» [Населенные пункты…, 1928]. Здесь важно указать, что населенный пункт указан как располагающийся «на побережье» рек Войкар и Малая Обь; это соответствует и расположению современной дер. Усть-Войкары. Такую формулировку составители справочника применяли для населенных пунктов, расположенных не далее 1 версты от реки. В случае если населенный пункт был удален на расстояние до двух верст, указывалось «близ реки такой-то» [Там же. С. 110–111]. Использование таких понятий, как «станция», «ста́ нок», свидетельствует о включении населенного пункта в систему ямских станций, что позволяет говорить о географической преемственности, учитывая также сведения о местоположении этих населенных пунктов, – между зимними Войкарскими юртами по А. А. Дунину-Горкавичу, юртами Устье-Войкары по материалам Приполярной переписи и современной дер. Усть-Войкары.
Совокупность приведенных сведений позволяет поставить под сомнение предположение первых исследователей городища о том, что населенный пункт Войкарские юрты существовал на месте расположения археологического «городища» до конца XIX в., а то и первой по- ловины ХХ в., а современная дер. Усть-Войкары, в свою очередь, была основана на побережье лишь в годы советской власти [Брусницына, 2003. С. 48; Федорова, 2004. С. 106]. Это предположение может опровергаться и сведениями К. М. Голодникова о заброшенности Войкарского «бугра», но при условии, если тобольский краевед имел в виду именно это место, так как есть основания допустить, что Войкарские зимние юрты в низовьях р. Войкар и Войкарские зимние юрты по К. М. Голодникову могли являться разными населенными пунктами. Об этом свидетельствует указание на принадлежность юрт, упоминаемых известным краеведом, к Куноватской волости. Напомним, что Е. В. Перевалова высказалась за различные местоположения Войкарского городка и одноименных юрт Куноватской волости. Она также отмечала, что достаточно условные границы Обдорской, Куноватской и Казым-ской волостей в XVIII–XIX вв. почти не изменялись [Перевалова, 2004. С. 169]. Долина р. Войкар относилась к территории Обдорской волости, но при этом ее нижнее течение помещалось в зоне, которую вполне можно считать пограничной [Мартынова, 1995. С. 86; Перевалова, 2004. С. 170]. Возможно, такая специфическая особенность расположения окрестностей р. Войкар и породила различные трактовки местоположения в делопроизводственной документации и записках путешественников XIX в.
Заключение
Таким образом, мы столкнулись с ситуацией, когда археологическими раскопками постфактум были получены материальные свидетельства в пользу гипотезы о существовании в Средневековье крупного или значимого населенного пункта на левобережье Оби, в окрестностях нижнего течения р. Войкар. Однако привлекаемые историографические источники для обоснования возможной связи археологического памятника с историческим поселением содержат неоднозначную, плохо согласующуюся между собой информацию 10, которая не может являться убедительно свидетельствовать в пользу установления тождества между археологическим «городищем» и историческим «городком», с одной стороны, а с другой – утверждать, что они связаны с местностью, где в начале ХХI в. были проведены археологические раскопки.
Список литературы Проблема соотношения археологического "городища" и исторического "городка": историография вопроса (на примере городища Усть-Войкарское - Войкарского городка)
- Абрамов Н. А. Описание Березовского края // ЗИРГО. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1857. Кн. 12. С. 329-448.
- Бабаков В. Г. К этноисторическому изучению приобских хантов (по материалам переписей населения XVIII в.) // СЭ. 1976. № 6. С. 99-110.
- Бахрушин С. В. Остяцкие и вогульские княжества в XVI-XVII веках. Л.: Изд-во Ин-та народов Севера ЦИК СССР им. П. Г. Смидовича, 1935. 91 с.
- Белявский Ф. Поездка к Ледовитому морю. М.: Тип. Лазаревых Ин-та вост. языков, 1833. 281 с.
- Брусницына А. Г. Современная источниковая база изучения позднего железного века полярной зоны Западной Сибири // Научный вестник ЯНАО. 2000. Вып. 3. С. 32-48.
- Брусницына А. Г. Городище Усть-Войкарское. Начало изучения // Угры: Материалы VI Сиб. симп. "Культурное наследие народов Западной Сибири". Тобольск: [Б. и.], 2003. С. 45-52.
- Голодников К. М. Поездка на Обдорскую ярмарку // ТГВ. 1878. № 14. С. 2-4.
- Голодников К. М. Заслуживают ли и в какой мере заслуживают научного исследования сибирские курганы вообще и тобольские в особенности? Тобольск: Тип. Тобольского губернского правления, 1879. 24 с.
- Долгих Б. О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII в. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 662 с.
- Дунин-Горкавич А. А. Справочная книга Тобольской губернии. Тобольск: Тип. Епархиального братства, 1904. 166 с.
- Дунин-Горкавич А. А. Тобольский Север. Тобольск: Губ. тип., 1910. Т. 2: Географическое и статистико-экономическое описание страны по отдельным географическим районам. 430 с.
- Зуев В. Ф. Описание живущих Сибирской губернии в Березовском уезде иноверческих народов остяков и самоедцов // Материалы по этнографии Сибири XVIII в. (1771-1772). М.; Л.: Изд-воАН СССР, 1947. С. 17-84.
- "И здесь появляется заря христианства…" (Обдорская миссия. 30-е - 80-е гг. ХIХ в.). Тюмень: Мандр и К, 2003. 328 с.
- Из истории Обдорской миссии: Источники. Тюмень: Мандр и К, 2004. 288 с.
- Кардаш О. В. Надымский городок в конце XVI - первой трети XVIII в. История и материальная культура. Екатеринбург; Нефтеюганск: Магеллан, 2009. 360 с.
- Книга Большому Чертежу. М., Л.: Изд-во АН СССР, 1950. 232 с.
- Косинская Л. Л., Федорова Н. В. Археологическая карта Ямало-Ненецкого автономного округа. Екатеринбург: УрО РАН, 1994. 114 с.
- Кушелевский Ю. И. Путевые записки. Тобольск: Тип. губернского правления, 1864. 70 с.
- Мартынова Е. П. Общественное устройство в XVII-XIX в. // История и культура ханты. Томск: Изд-во ТГН, 1995. С. 177-120.
- Мартынова Е. П. Очерки истории и культуры хантов. М.: ИЭА РАН, 1998. 235 с.
- Миллер Г. Ф. Описание Сибирского царства. Книга Первая. СПб.: Тип. при Имп. Акад. наук, 1750. 506 с.
- Миллер Г. Ф. История Сибири. М.: Вост. лит., 1999. Т. 1. 630 с.
- Населенные пункты Уральской области. Свердловск: Издание орготдела Уралоблисполкома, Уралстатуправления и окружных исполкомов, 1928. Т. 12: Тобольский округ. 282 с.
- Носилов К. Д. Исторические памятники племени Маньсы // Изв. Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете. Труды антропол. отдела. Т. 9. Вып. 3. Протоколы заседаний Антропологического отдела Общества с 4-го декабря 1881 г. по 1886 г.: Т. 59. Вып. 5. М.: "Русская" типо-литография, 1890. С. 560-568.
- Памятная книжка Тобольской губернии на 1884 год. Тобольск: Тип. Тобольского губернского правления, 1884. 530 с.
- Патканов С. К. Статистические данные, показывающие племенной состав Сибири, язык и роды инородцев. Том 2: Тобольская, Томская и Енисейская губернии // ЗИРГО по отделению статистики. СПб., 1911. Т. 11, вып. 2. 432 с.
- Перевалова Е. В. Северные ханты: этническая история. Екатеринбург: УрО РАН, 2004. 414 с.
- Перцев Н. В. Аборигенные "городки" Нижнего Приобья в XVI-XVII вв.: проблемы выявления и соотношения письменных и археологических источников // Вестник ТГУ. 2017. № 415. С. 102-109.
- Путевые журналы миссионеров Обдорской миссии (60-е - 70-е XIX в.). Тюмень: Изд-во Юрия Мандрики, 2002. 224 с.
- Руденко С. И. Инородцы Нижней Оби. СПб.: Тип. А. Э. Коллинс, 1914. 20 с.
- Сибирь XVIII века в путевых описаниях Г. Ф. Миллера. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1996. 310 с. (История Сибири. Первоисточники; вып. 6)
- Словцов И. Я. Материалы о распределении курганов и городищ в Тобольской губернии. Томск: Типо-литография В. В. Михайлова и П. И. Макушина, 1890. 28 с.
- Служебная чертежная книга. Ремезов С. У. и сыновья: рукопись конца XVII - начала XVIII в. Эрмитажного собрания № 237 Российской национальной библиотеки: [факсимильное издание]. Тобольск: Возрождение Тобольска, 2006. 167 л.
- Список населенных мест Тобольской губернии по состоянию на 1868-1869 годы. СПб.: Центр. стат. комитет МВД, 1871. 478 с. Список населенных мест Тобольской губернии. Тобольск: Губ. тип., 1912. 365 с.
- Список населенных пунктов и административное деление Тобольского округа Уральской области. На 1 октября 1926 г. Тобольск: Изд. Орготдела Окрисполкома, 1926. 120 с.
- Талицкая И. А. Материалы к археологической карте Нижнего и Среднего Приобья // МИА. Древняя история Нижнего Приобья. М.: АН СССР, 1953. № 35. С. 242-357.
- Убыткова Е., Преображенская И., Копотилов М. Курганы и городища Тобольского округа и их изучение // Наш край. 1925. № 4. С. 31-35.
- Федорова Н. В. Городище Усть-Войкарское (Войкарский городок) // Проблемы межэтнического взаимодействия в Сибири. Новосибирск: АртИнфоДата, 2004. Вып. 2. С. 106-108.
- Федорова Н. В. Войкарский городок. Итоги раскопок 2003-2005 гг. // Научный вестник ЯНАО. 2006. Вып. 4. С. 11-17.
- Хорографическая чертежная книга Сибири С. У. Ремезова: В 2 кн. Тобольск: Возрождение Тобольска, 2011. Кн. 1. 171 с.; Кн. 2. 692 с.
- Чертежная книга Сибири. Составлена тобольским сыном бояр. С. Ремезовым в 1701 г: [в 2 т.]. М.: Картография, 2003. Т. 1. 100 с.; Т. 2. 176 с.
- Шашков А. Т. Средневековые югорские городки: сведения письменных источников и задачи археологического изучения // Северный археологический конгресс. Доклады. Ханты-Мансийск; Екатеринбург: Академкнига, 2002. С. 240-252.