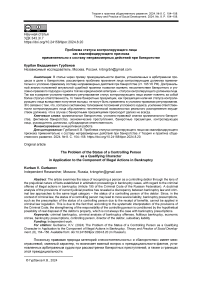Проблема статуса контролирующего лица как квалифицирующего признака применительно к составу неправомерных действий при банкротстве
Автор: Гурбанов К.В.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 8, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье через призму преюдициальности фактов, установленных в арбитражном процессе в деле о банкротстве, рассмотрена проблема признания лица контролирующим должника применительно к уголовно-правовому составу неправомерных действий при банкротстве (ст. 195 УК РФ). Доктринальный анализ положений актуальной судебной практики позволил выявить несоответствие банкротного и уголовно-правового подхода к одной и той же юридической категории - статуса контролирующего должника лица. Так как в разрезе уголовно-правового регулирования статус контролирующего лица может повлечь за собой более строгую ответственность, то такие банкротные презумпции, как презумпция наличия статуса контролирующего лица вследствие получения выгоды, не могут быть применены в уголовно-правовом регулировании. Это связано с тем, что, согласно системному толкованию положений уголовного кодекса, усиление ответственности контролирующего лица обусловлено гипотетической возможностью реального распоряжения имуществом должника, что в случае с банкротными презумпциями происходит далеко не всегда.
Криминальные банкротства, уголовно-правовой анализ криминального банкротства, фиктивное банкротство, экономические преступления, банкротные презумпции, контролирующее лицо, руководитель должника, субсидиарная ответственность
Короткий адрес: https://sciup.org/149146062
IDR: 149146062 | УДК: 343.3/.7 | DOI: 10.24158/tipor.2024.8.20
Текст научной статьи Проблема статуса контролирующего лица как квалифицирующего признака применительно к составу неправомерных действий при банкротстве
Анализ такой объемной по форме и содержанию уголовно-правовой нормы, как неправомерные действия при банкротстве, требует постоянного обращения к категориям банкротного законодательства, которые в контексте ответственности субъектов по указанной статье имеют ряд важных презумпций (например, презумпция невозможности удовлетворения требований кредиторов вследствие действий и бездействия контролирующих должника лиц).
Эти презумпции конкурсного права чрезвычайно важны, так как могут устанавливать непосредственные действия лиц по доведению должника до банкротства.
Речь идет о гражданско-правовой ответственности: субсидиарная ответственность по обязательствам должника (несостоятельного лица) является разновидностью гражданско-правовой ответственности и наступает в связи с причинением вреда имущественным правам кредиторов подконтрольного лица1.
Могут ли эти презумпции применяться в разрешении уголовно-правовых вопросов, связанных с различными разновидностями криминального банкротства?
Могут, но только в той мере, в какой они не предрешают вопросов виновности лица в совершении деяния: «… принятые в порядке арбитражного или гражданского судопроизводства решения не могут предрешать выводов суда о совершении преступления»2.
Ограничения на использование банкротных презумпций в уголовном праве вполне обоснованы. Для того, чтобы убедиться в этом, можно обратиться к презумпции статуса контролирующего должника лица (далее – КДЛ) и возможности дальнейшего привлечения к субсидиарной ответственности в случае получения существенной выгоды какого-либо лица от недобросовестных действий контролирующих должника лиц.
В соответствии с п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» также предполагается, что является контролирующим выгодоприобретатель, извлекший существенные преимущества из бизнес-модели, предполагающей аккумуляцию на должнике задолженности и расходов, а на ином лице, выгодоприобретателе – непосредственную выгоду.
Так, в деле о банкротстве ООО «Мосрегионстрой» конкурсный управляющий совместно с консолидированной группой кредиторов добился привлечения к субсидиарной ответственности конечного выгодоприобретателя заведомо убыточной бизнес-модели, используя презумпцию статуса контролирующего должника лица при получении выгоды от должника: «Таким образом, помимо первоначальных ответчиков, привлечению к субсидиарной ответственности подлежат контролирующие должника лица: Шкатулов Петр Максимович и Шкатулов Илья Петрович как бенефициары и фактические владельцы группы компаний, куда входил Должник и ООО “Трансстройсервис”, за реализацию заведомо убыточной бизнес-модели, в которой Должник стал центром убытков»3.
То есть лицо может быть признано контролирующим должника даже в том случае, если оно не дает и не может давать обязательных для должника распоряжений, а лишь участвует в бизнес-модели в роли центра генерации прибыли за счет должника.
Но для уголовной ответственности эта презумпция, безусловно, применяться не может, потому что подобный подход не соответствует воле законодателя: ч. 1.1 ст. 195 УК РФ содержит упоминание о контролирующем лице, но в контексте совершенных деяний: «…те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно контролирующим должника лицом…».
Здесь и проявляется различная законодательная цель регулирования соответствующих отношений в различных отраслях.
В банкротстве презумпция наличия статуса контролирующего лица при получении существенной выгоды используется для того, чтобы не дать возможность недобросовестным лицам, используя фикцию юридического лица с самостоятельным обособленным имуществом, избежать ответственности при переводе деятельности на другое юридическое лицо.
Этот недобросовестный прием часто используется в банкротстве: «…бенефициаром должника принимаются меры для обеспечения функционирования бизнеса… путём последовательного перевода данной деятельности с одного юридического лица на другое, путем перевода ликвидной материально-технической базы для обеспечения услуг связи; никаких мер для погашения задолженности перед кредиторами не принимается»4.
То есть, не будь этой презумпции, невозможно было бы привлечь промежуточную организацию или организацию, на которую был осуществлен перевод деятельности, к субсидиарной ответственности и, соответственно, обратить взыскание на это имущество (которое было отчуждено к нему от должника).
Однако в уголовном праве законодатель указал на совершение деяний по неправомерным действиям контролирующими лицами как на более общественно опасные деяния.
Но как эти самые неправомерные действия при банкротстве может совершить лицо, статус КДЛ которого установлен презумпцией получения выгоды? Максимальная вовлеченность в деятельность должника таких «промежуточных» бенефициаров может сводиться лишь к аккумуляции прибыли, без прямой связи с должником.
Подобное ограничение преюдициальности часто встречается в практике судов общей юрисдикции: «Ссылка стороны защиты в обоснование доводов жалоб на отсутствие в действиях… состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ, на определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 21.11.2022 г., которым в удовлетворении заявления… о привлечении осужденного к субсидиарной ответственности по обязательствам ЗАО…, не влияет на правильность выводов суда по существу дела и не свидетельствует о невиновности осужденного в инкриминируемом ему деянии»1.
В связи с этим, там, где в банкротных составах упоминаются контролирующие лица, предлагается добавить упоминание о том, что статус контролирующих должника лиц устанавливается по тем же основаниям, что предусмотрены законодательством о банкротстве, исключая презумпцию контролирующего лица при получении выгоды от недобросовестных действий должника.
Поскольку такой квалифицирующий признак, как наличие статуса КДЛ, указан в ч. 1.1, 2.1, ч. 4 ст. 195 УК, п. «а» ч. 2 ст. 196 УК, то наиболее удобным с точки зрения юридической техники подобное дополнение предполагается осуществить путем указания соответствующего примечания к ст. 195 и 196 УК.
В банкротном праве России статус КДЛ не ограничивается только формальными признаками осуществления контроля над должником, которые указаны в Законе о банкротстве и соответствующих разъяснениях судов. Правоприменитель может преодолеть подобную сложность в установлении статуса КДЛ путем преюдиции фактов, установленных арбитражным судом при рассмотрении дела о банкротстве.
Ч. 5 ст. 61.10 Закона о банкротстве прямо указывает, что лицо может быть признано контролирующим и по иным основаниям. Этими иными основаниями могут быть, например, любые неформальные отношения, в том числе установленные оперативно-розыскными мероприятиями2.
В аспекте преюдициальности фактов, установленных арбитражными судами, именно сведения, свидетельствующие о наличии у лица статуса КДЛ, могут использоваться в уголовном деле. Для такого использования преюдициальности в правовой действительности современной России есть все необходимые условия:
-
1. Статус КДЛ не предрешает виновности лица в совершении преступления.
-
2. Так как статус КДЛ является необходимым условием для привлечения к субсидиарной ответственности, а практически ни одно крупное дело о банкротстве не обходится без заявления о привлечении к подобной ответственности (за 2023 г. суды рассмотрели свыше 3 тыс. таких заявлений)3, то значительный объем сведений о статусе КДЛ, установленных судами, будет способствовать полному и всестороннему разрешению уголовного дела.
Объектом преступления по ч. 1 ст. 195 УК РФ являются «установленный порядок признания должника несостоятельным (банкротом), интересы кредиторов»4.
-
Ч. 1 ст. 195 УК РФ характеризуется тремя деяниями:
-
1. Сокрытием имущества, его местонахождения, сведений о нем.
-
2. Передача, отчуждение, уничтожение имущества должника.
-
3. Фальсификация документации должника.
Следует подчеркнуть, что обязательным признаком преступлений, указанных в ч. 1 ст. 195 УК РФ, является их совершение при наличии признаков банкротства, то есть, по сути, в преддверии такового. Это означает, что они могут, в том числе, совершаться до начала процедуры банкротства (Александров, 2023: 26).
Интересен вопрос определения предмета преступления по ст. 195 УК РФ. Судебная практика в настоящее время понимает под предметом неправомерных действий именно конкурсную массу должника: «При этом предметы преступного посягательства, исходя из целей и мотивов данных преступлений, хотя и являются денежными средствами – различны, одни выступают в виде конкурсной массы, на которую претендуют кредиторы, а другие – в виде не поступивших средств в бюджетную систему государства»1.
Объективная сторона характеризуется сокрытием имущества должника, под которым понимается его полное или частичное утаивание: «Судом установлено, что неправомерные действия Т. выразились в том, что,… предвидя признание <данные изъяты> банкротом… составил и подписал договоры уступки права требования по долговым обязательствам перед третьими лицами. Встречного предоставления по договорам уступки права требования не получил, за взысканием дебиторской задолженности не обращался, а документацию утаил»2.
Специальный субъект преступления – это лицо, имеющее в силу прямого указания закона, решения суда или договора возможность совершать деяние, указанное в ч. 1 ст. 195 УК РФ.
Среди квалифицирующих признаков законодатель указывает совершение преступления лицом, использующим служебное положение, имеющим статус КДЛ, либо руководителем этого контролирующего лица.
Использование служебного положения законодатель обоснованно не стал отождествлять со статусом контролирующего лица, так как служебные полномочия могут сводиться лишь к административно-кадровым полномочиям, не дающим лицу возможности определять вектор деятельности должника.
Например, в указанном контексте в коммерческих организациях таким субъектом чаще всего является лицо, занимающее должность коммерческого директора организации. Он может выбирать контрагентов, определять объем поставок или покупок, но не может проводить инвентаризацию или распоряжаться имуществом должника.
Субъективная сторона всех «банкротских» составов является предметом дискуссии в доктрине уголовного права.
Так, среди исследователей наиболее распространенной является точка зрения, согласно которой криминальные банкротства совершаются исключительно по прямому умыслу (Паронян, Хоменко, 2022: 32).
И действительно, предпринимательская деятельность связана с риском, поэтому ее осуществляют профессиональные участники рынка, которые осведомлены о характере и последствиях своих действий.
Занимаемые же ими руководящие должности в корпоративной структуре должника предполагают их осведомленность о его экономическом положении.
В литературе также высказывается мнение о том, что рассматриваемым преступлениям присущ как прямой, так и косвенный умысел (Волженкин, 2002: 201).
Определять направленность умысла, прямой он или косвенный, предполагается по «чистоте», системности, последовательности действий лица: если действия лица были направлены на систематический вывод имущества, последовательный перевод деятельности на другие юридические лица, аккумулирование долговой нагрузки на должнике, «размытие» имущества, то преступление совершено с прямым умыслом (Потапенко, 2024: 110).
Так, в случаях, когда лицо, привлекаемое к уголовной ответственности по ст. 195 УК РФ, всячески отрицает желание причинить ущерб, указывая на свое безразличное к нему отношение, то следует исходить из анализа характера конкретных действий привлекаемого лица: в тех случаях, когда причинение ущерба вследствие действий лица неизбежно, то причинитель ущерба желает его, а не допускает.
Интерес представляет точка зрения, согласно которой почти все рассматриваемые преступления совершаются с косвенным умыслом, так как указанное законодателем последствие в виде причинения крупного ущерба кредиторам или должнику субъекта не заботит. Желание направлено только на удовлетворение собственных интересов, а к причинению существенного ущерба субъект относится безразлично3.
Наиболее рациональным представляется подход, согласно которому криминальные банкротства совершаются исключительно с прямым умыслом. Сама диспозиция в ч. 1 ст. 195 УК предполагает возможность совершения этих преступлений только специальным субъектом – лицом, в силу закона или иного специального полномочия имевшим реальную возможность на совершение действий с имуществом должника, его финансово-бухгалтерскими документами.
Такой субъект ввиду возложенных на него полномочий должен осознавать характер совершаемых деяний и опасность последствий. Действия, указанные в ч. 1 ст. 195 УК, совершенные при наличии признаков банкротства, непременно наносят вред имущественным правам кредиторов и самому должнику.
Рациональность этого подхода подтверждается актуальной судебной практикой: при анализе судебных актов по результатам рассмотрения уголовных дел по ч. 1 ст. 195 УК не выявлено случаев их совершения с косвенным умыслом.
Таким образом, сокрытие имущества и имущественных прав должника направлено непосредственно на конкурсную массу должника, за счет которой может быть осуществлено удовлетворение требований кредиторов. Полное или частичное утаивание имущества влечет объективную невозможность удовлетворения требований кредиторов и прямо наносит имущественный вред как кредиторам, так и самому должнику.
Список литературы Проблема статуса контролирующего лица как квалифицирующего признака применительно к составу неправомерных действий при банкротстве
- Александров С.А. Преступления в сфере банкротства физических лиц: вопросы разграничения // Российский следователь. 2023. № 6. С. 25-28. DOI: 10.18572/1812-3783-2023-6-25-28 EDN: QPWYWJ
- Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (Экономические преступления): монография. СПб., 2002. 639 с.
- Паронян К.М., Хоменко С.В. Уголовно-правовая характеристика неправомерных действий при банкротстве: объективные и субъективные признаки // Вестник Таганрогского института имени А.П. Чехова. 2022. № 1. С. 361-370. EDN: TARGTE