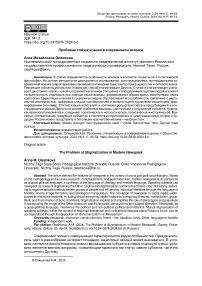Проблема стигматизации в современном новоязе
Автор: Олешкова А.М.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 8, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье определяются особенности новояза в контексте социальной и политической философии. На основе методологии дискурсивных исследований, конструкционизма, постмодернизма современный новояз охарактеризован как квазиполитический язык, синтез языка идеологии и сетевого языка. Говорящие субъекты используют новояз как способ стигматизации Другого. Cтигма и стигматизация усиливают дихотомию «свой - чужой», отражают негативное отношение к определенным группам людей и влияют на идентичность индивидов при помощи языка вражды, формирования образа врага, манипуляции через идеологию. Циркуляция новояза в социальных медиа обуславливает его особенности, связанные с виртуальной анонимностью, цифровым следом, конспирологией и манипуляцией, групповым мышлением, формированием эхо-камер. Стигматизация использует и усиливает роль стереотипов и предубеждений в конструировании образа Другого на основе особенных языковых конструкций и отчуждения субъекта. Новояз, как квазиполитический язык, соединяет политическое и неполитическое, политическое и историческое. Взаимную стигматизацию говорящих субъектов в контексте историософских и цивилизационных споров о будущем России можно представить в оппозиции «расчеловечивание - мессианство».
Новояз, дискурс, конструкционизм, свой - чужой, биполитика, тело, другой, язык вражды
Короткий адрес: https://sciup.org/149146138
IDR: 149146138 | УДК: 141.2 | DOI: 10.24158/fik.2024.8.6
Текст научной статьи Проблема стигматизации в современном новоязе
Философы-постмодернисты определяют современного субъекта в негативистических категориях, фактически отказывая говорящему субъекту в целостности и даже в субъектности (Бараш, 2017). При этом важно понимать, что коммуникативное пространство за последние годы изменилось в сравнении с тем, как его описывали классики постмодернизма. При верных интуициях, касающихся смерти автора, стремления к самовыражению, симулякрах, растворения Я в Мы и множества других важных феноменах, необходимо учесть как минимум два аспекта развития современных социальных медиа и виртуального пространства в целом: развитие нейросетей и, в частности, чата GPT, а также политизацию публичной коммуникации и поляризацию общества. Оба момента уже рефлексируются в современном социально-гуманитарном знании1.
Первый аспект позволяет по-новому посмотреть на статус говорящего субъекта в аксиологическом и этическом срезах, а также в гносеологическом и онтологическом отношении. Второй вместе с первым указывают на ключевые темы, публично обсуждаемые говорящими субъектами в Сети и за её пределами, и являющиеся маркерами ценностной сферы общества. Представляется, что философский уровень рефлексии данного вопроса является системообразующим для всего комплекса гуманитарных и социальных наук, позволяет представить тему в междисциплинарных связях. Объектом исследования является современное медиапространство, предметом - новояз как способ стигматизации в современном медиапространстве. Цель исследования - выявить особенности процесса стигматизации, способы стигматизации Другого в современном медиапространстве.
Научная новизна темы изучения современного новояза в рамках философии заключается в анализе его влияния на формирование новых когнитивных структур и социальных практик, а также в исследовании способов, которыми язык трансформирует восприятие социокультурной реальности и идентичности в условиях цифровой эпохи. Это позволяет выявить взаимосвязь между языковыми изменениями и философскими концепциями, такими как постмодернизм и конструкцио-низм. Изучение феномена современного новояза в контексте политической и социальной философии открывает новые горизонты для понимания роли языка в формировании стереотипов и стигматизации, подчеркивая важность философской рефлексии в анализе этих процессов. Практическая значимость данного исследования проявляется в необходимости изучения современного медиапространства и коммуникационных процессов, что находит свое выражение в разработке курса основ медиаграмотности, способствующего развитию критического мышления и осведомленности общества о языковых манипуляциях.
Мы определяем медиапространство, прежде всего, как интернет-пространство, в котором пересекаются нарративы и репрезентации, учитывая факт того, что классические СМИ сохраняют свой автономный статус, но также представлены в Сети, а также учитываем то обстоятельство, что современный интернет-пользователь - говорящий субъект, который одновременно потребитель и производитель информации. При этом, анализируя медиапространство, следует, конечно, учитывать условные границы между близкими явлениями (Ним, 2013), однако существующий разбег трактовок принципиально не влияет на логику раскрытия темы в социально-философском срезе.
Понятие «новояз» используется в разных контекстах, в том числе применяется как оценочное суждение и собирательный термин, суммирующий отклонения от языковой нормы. Филологические исследования активно разрабатывают данную проблематику. Полезными для философского осмысления темы представляются работы по политической лингвистике (Шестерина, 2023), в рамках которых, помимо также важных наблюдений, касающихся непосредственно языковых особенностей новояза, проблематизированы вопросы манипуляции, фрейминга сознания и другие аспекты темы, связанные с политической и социальной философией.
В отличие от языка классических тоталитарных эпох, современный новояз представляет собой синтез, в котором аккумулированы особенности символических систем, которые можно назвать тоталитарным языком (описан в антиутопиях и осмыслен на примере истории XX века), а также современным языком интернета. Последний может быть формальным выражением для первого, оболочкой, в которой заключён политический или квазиполитический смысл высказывания (например, мем про Карла может содержать любую тему).
Также язык Рунета может содержать примеры, которые фиксируют не только форму политического высказывания, но и обладают соответствующим содержанием и оценочным суждением: слово ржубль отражает реакцию блогеров на падение курса рубля2. Кроме того, интернет важен и как источник порождения современного новояза: многочисленные слова и выражения возникают в Сети, а затем переходят из онлайн-сферы в условный офлайн. При этом существуют и обратные примеры, важен сам факт соединения двух пространств.
Квазиполитический характер новояза объясняется тем, что говорящие субъекты могут выйти на политическую тему и заклеймить друг друга как идеологических противников, начиная разговор с неполитической темы. Именно многообразие горизонтальных коммуникаций, их разветвлённость в чатах и комментариях в социальных сетях полностью меняют условия для реализации новояза и, как следствие, делают его носителя не похожим на человека, использующего новояз в середине XX века. Если в советском новоязе в качестве альтернативы выступали частушки, анекдоты, перифраз, мат (Сарнов, 2002), то в современном новоязе сочетается официоз и этот народный пласт культуры.
Вместе с тем любой новояз подразумевает конструирование образа врага. Это общий знаменатель, характерный для идеологического языка любой эпохи. Стигматизация Другого – это важная часть современного новояза. Понятие «стигматизация» и «стигма» прошли длительный путь эволюции, включающий физические маркировки субъектов, которых не одобряли в обще-стве1. Кроме того, данное понятие используют в медицинском дискурсе, например, при изучении стигматизации ВИЧ-инфицированных2.
Под стигматизацией следует понимать одновременно символическое выражение ценностной сферы говорящего субъекта и реакцию на отклонение от нормы, воспринимающейся как единственно верной и возможной. Следует отметить, что в виртуальном пространстве стигматизация сохраняет символическое и атрибутивное значение в том отношении, что на говорящего субъекта могут навесить ярлык в прямом и переносном смысле.
Если сообщество в социальной сети, например, одобряет патриархальную семью, а некий субъект высказывается против, это может привести к ценностному конфликту, выраженному дискуссией, которая с высокой долей вероятности будет разворачиваться в оскорбительном ключе в череде интернет-комментариев. В результате говорящего субъекта могут не только обвинить в неправоте и даже непатриотизме, но и исключить из данной беседы или сообщества. Если представить, что ситуация принимает грандиозный оборот, говорящий субъект может даже удалить свой аккаунт, руководствуясь разными мотивами, которые, конечно, нуждаются в отдельном анализе, но в данной теме важен сам итог, такое действие может рассматриваться как символическая смерть. Результат символического обмена, когда власть (Бодрийяр, 2011: 27) осталась у того, кто остался, даже если разговаривать уже не с кем.
Стигма отражает ёмкую, краткую выжимку из сложных идеологических и ценностных систем, акцентируя внимание на чём-то одном, формируя более простую, во многом бескомпромиссную позицию говорящего субъекта. Стигматизация актуализирует бинарную оппозицию «свой – чужой», которая в современном новоязе наполнена более конкретными категориями, но всё ещё достаточно глобальными. В частности, явно вербализированы следующие пары: патриот – непатриот, консерватор – либерал . Если первая пара фактически проговаривается и именно так обозначается говорящими субъектами, то во втором случае чаще можно видеть обращения к условным либералам, а условного консерватора мы должны как бы домыслить на контрасте.
Представляется, что в определенном смысле данные пары понятий можно считать взаимозаменяемыми по смыслу. В этой связи самыми показательными примерами являются активно используемые в Рунете слова и выражения, связанные с понятием «либерал», «либерализм» и их производные. В таких вариантах обращения к Другому, как либераха, либерда, либераст, либероид и др., с учётом контекста высказывания заключается обвинение сторонников данной идеологии в хаосе и анархии, кризисе 1990-х и 2000-х гг., развале СССР.
В конечном счёте такой Другой обвиняется в непатриотизме, прозападных ориентациях, принятии чуждых ценностей, прежде всего, американских. В отношении последнего момента следует отметить расширение стигмы: если в конце 1990-х – начале нулевых годов активно использовалось понятие пиндосы , то в современном новоязе используется термин англосаксы , объединяя в целом англоязычные страны.
Обновление новояза можно зафиксировать и на других примерах: если слово «чучмек» применительно к Другому используется преимущественно старшим поколением, то в современном новоязе можно увидеть разнообразные модификации, которые множатся на фоне проблемы мигрантофобии и изменения миграционного законодательства: например, матструбеки, чурко-бесы и др. Расширение стигмы сопровождается не только усилением оскорбительной составляющей, но и нивелированием смысла целого ряда научных категорий, которые утрачивают однозначный смысл и начинают использоваться оценочно: фашизм, нацизм, геноцид и др.
Например, в рамках предвыборной кампании в США резонанс получило сравнение, высказанное сенатором Джей Ди Вэнсом относительно кандидата в президенты Дональда Трампа, –
«американский Гитлер». В целом, на примере новейшей истории Америки, начиная с кампании 2016 г., говорящих субъектов можно разделить на две группы, в названиях которых используется новояз – трампофилы и трампофобы .
Интересно, что в современном новоязе актуализируется ненормальность оппонента посредством использования медицинских диагнозов, указания на психологические (психические) отклонения. В том числе существует заметный пласт лексики на тему гендера, сексуальной ориентации, а также низких интеллектуальных способностей и ненормальности Другого: Гейропа, православнутый, демшиза . Это лишь самые заметные примеры, в которых акцентированы девиации Другого, в частности, « либерал» представлен не только как сторонник западных ценностей, но и как педофил .
В целом, в новоязе большое значение имеет тело Другого. Как в физическом, так и психическом и даже биологическом измерениях оно является объектом стигматизации. В этой связи сам субъект может воспринимать себя одновременно как существо, являющееся телом, идентичным с ним, или имеющее тело в распоряжении (Бергер, Лукман, 1995: 86).
Новояз обладает биополитической функцией, маркируя гендерные нормы, физиологические и психические особенности Другого. Посредством новояза масштабируются вопросы рождаемости, репродуктивных функций, здоровья, продолжительности жизни и смертности с частного, приватного до государственного, цивилизационного измерений. В отличие от теории М. Фуко, который связывал биополитику с деятельностью институтов, в современном новоязе говорящий субъект сам является носителем биовласти, формируя и усиливая стереотипы, нормы и исключения на основе языковых выражений и символов. Перефразируя М. Фуко, можно сказать, что тело – это биополитическая реальность, новояз – биополитическая стратегия (Фуко, 2010а: 418). Сам факт объективации и стигматизации телесности и её опосредование социальной сущности субъекта нивелируют субъектность Другого.
Другой показан как больной, ненормальный, сумасшедший, безумный. С этим говорящему субъекту ничего нельзя сделать, поправить ситуацию невозможно. Убеждения в таком случае для говорящего субъекта не эффективны. Ведь Другой в новоязе представлен сущностно девиантным, поэтому разговор с ним состояться не может, и объяснить, почему правильно так, а не иначе, не получится. Как следствие, новояз сопровождается безапелляционными суждениями, манипуляциями, языком вражды и оскорблениями, которые могут попадать не только в морально-этическую, но и правовую регламентацию.
В новоязе Другой фактически расчеловечивается. Он является врагом и чужим, когда с ним спорят или пытаются поспорить. Но его изоляция в прямом и переносном смысле лишает необходимости эскалировать Другого до Чужого и до Врага. Говорящие субъекты существуют в своих эхо-камерах, медиапузырях (mediabubbles). Они фактически не существуют друг для друга. Это парадоксальная особенность новояза с учётом того, что цифровой след выражен в Сети разнообразными формами (комментарий, пост, репост, лайк, дизлайк и т. д.) и бесконечными ответвлениями, которые можно сравнить с образом ризомы Делёза и Гватари (Делёз, 2010: 11–45).
Такие собственные у говорящих субъектов реальности являются контр-реальностями, которые объективируются (Бергер, Лукман, 1995: 268). Отсутствие продуктивного контакта, невозможность понимания Другого может не быть проблемой для говорящего субъекта. Он защищён от стигматизации собственной идентичностью, продолжая чувствовать свою нормальность1.
Образ душевнобольного, который изучался М. Фуко, подходит и к этой новой социокультурной ситуации. Сумасшедший, прокаженный – метафоры, которые позволяют понять более разнообразные механизмы исключения стигматизированных из современных сообществ. «Прокаженный» может восприниматься как таковой изначально, с момента рождения (Бергер, Лукман, 1995: 268). Если раньше такого субъекта вытесняли за городские стены (Фуко, 2010б: 210), то сегодня исключают из виртуальной беседы, забирают субъектность, отказывают в ней. Интернет-пространство и, в частности, социальные сети, как частный случай, можно представить в категориях паноп-тизма (Фуко, 1999: 285–334).
Социальные сети предоставляют пространство, где пользователи могут наблюдать друг за другом, обмениваться информацией и выражать свои мнения. Однако говорящие субъекты сами становятся объектами наблюдения. Центров контроля в социальных сетях несколько: от правовой регламентации речевого поведения в Сети до морально-этического осуждения со стороны других говорящих субъектов. Такой постоянный контекст наблюдения и возможной оценки создает у говорящих субъектов состояние самоконтроля и самоцензуры. Это напоминает динамику паноптикума, где индивиды модифицируют свое поведение, зная, что за ними могут наблюдать в любой момент.
Важно подчеркнуть, что ипостаси Свой и Чужой в новоязе взаимообратны. Несмотря на то, что критика либерализма выглядит в Рунете заметнее (как минимум имеется больше общеизвестных производных однокоренных наименований), следует отметить, что линий противостояний и стигматизаций Своего и Чужого больше, и они взаимны. Если стигматизация либерала связана с редукцией идеологии и философии либерализма, при этом сопровождается разнообразием критикуемых кейсов, то стигматизация тех, кого называют турбо-патриотами, ура-патриотами, как правило мотивируется говорящим субъектом поддержкой официального политического курса и отсылкой к истории СССР, по поводу которой говорящие субъекты тоже делятся на сторонников и противников советского проекта в целом и отдельных исторических событий в частности ( победобесие, пятая колонна ).
Оппозиции либерал - консерватор, непатриот - патриот сами являются упрощением. Они объединяют достаточно сложные для категоризации множественные манифестации говорящего субъекта. Вместе с тем они позволяют увидеть многообразные ризоматические ответвления и сочетания, которые указывают на важность обращения к такому квазиполитическому дискурсу, который, с одной стороны, намечает дихотомии, с другой – предлагает взаимоисключающий набор сочленений, актуализируя проблему субъекта в современном коммуникативном пространстве.
Говорящий субъект, который стигматизирует Другого, сам для этого Другого тоже является Другим. Анонимность общения в Сети, множественная идентичность, которая опредмечивается в разных именах говорящего субъекта, в том числе вымышленных; наличие таких явлений, как тролли и боты (термины сами являются примером новояза) – всё это создаёт условия для лёгкой смены точки зрения говорящих субъектов, даёт возможность сосуществовать одновременно позициям «за» и «против». В этой связи можно сказать, что говорящий на новоязе субъект мыслит в дуалистичной логике, которая в этическом аспекте напоминает манихейство. Картина мира говорящего субъекта бинарная, мир поделён на однозначно добрую и злую, духовную и материальную стороны.
В таком мироздании Другой олицетворяет безусловное зло, а сам говорящий субъект и относящиеся к нему Свои – безусловное добро. Поскольку только Свои знают истину, именно они являются носителями спасительной для всего общества идеи. Свой обладает мессианскими характеристиками, однако Другой его услышать и понять, с точки зрения говорящего на новоязе субъекта, не может. Вместе с тем мир должен избавиться от зла.
Дискурс вражды, являющийся заметной частью современного новояза, актуализирует метафизическую войну, которую ведут говорящие субъекты. В условиях заведомой дегуманизации, анонимности, безличностной коммуникации она сопровождается не только манихейством и мессианством, но и расчеловечиванием Другого. При этом как Другой, так и Свой – анонимы, что усиливает абстрактность и глобальность манихейского мировоззрения. Мнения в Сети существуют как бы без конкретного носителя, циркулируют в Сети как оболочки, с которыми может быть связан любой интернет-пользователь, в том числе несуществующий в реальности.
Таким образом, современный новояз имеет связь с классическим новоязом XX века. Его отличительные особенности связаны с разными уровнями коммуникации (сочетание текстового и визуального компонентов в интернет-мемах; общие примеры слов и словосочетаний в официальном политическом дискурсе, интернет-комментариях, научных и квазинаучных терминах, журналистском дискурсе и т. д.). Общей особенностью, которая характерна для новояза как социокультурного феномена, является его способность формировать и репрезентировать реальность в оппозиции «свой – чужой».
Одним из системообразующих признаков, который заметен в современном новоязе и что отличает его от советского новояза, – это ярко выраженный язык вражды и обсценная лексика, которые могут быть встроены в новояз для усиления стигматизации Другого. Стигма в современном новоязе динамична, в образ Другого могут попадать различные процессы, явления и субъекты, которые можно назвать их апологетами.
Мы выделили два аспекта в современном новоязе, которые наглядно демонстрируют обозначенные особенности. С учётом квазиполитичности и эклектичности новояза заметной и важной темой для говорящего субъекта является историософское позиционирование России в дихотомии «свой - чужой» с производными от этой дихотомии парами: либерал - консерватор, русский - нерусский, Запад - Восток, евразийцы - англосаксы, патриоты - русофобы и др. Любые частные темы в дискуссии между говорящими субъектами вписываются в эти объемные дихотомии. Другой для говорящего субъекта репрезентирован с акцентом на его ненормальности, которая лишает его права на собственное мнение, которое по определению неверно.
Для констатации девиаций и перверсий Другого говорящий субъект активно использует характеристики, связанные с телесностью, сексуальностью, физиологическими и психическими процессами личности. Эти особенности стигматизации Другого могут быть интерпретированы в рамках интеллектуальной традиции, заложенной Мишелем Фуко, Питером Бергером, Томасом Лукманом, Ирвином Гофманом.
В целом, язык играет ключевую роль в формировании социокультурной реальности. Новояз является инструментом биополитики, направленной на установление норм и исключение «ненормальных» индивидов из общества. Стигма создает разделение между «нормальными» и «ненормальными», что приводит к социальному и культурному отчуждению. Новояз может быть рассмотрен как способ формирования и поддержания определенных социокультурных норм, исключающих тех, кто не соответствует этим нормам.
Список литературы Проблема стигматизации в современном новоязе
- Бараш Л.А. Постмодернистский субъект коммуникации // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017. № 12-4 (86). C. 29-31.
- Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. М., 1995. 323 с.
- Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / пер. с фр. С.Н. Зенкина. М., 2011. 392 с.
- Делёз Ж. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения / пер. с фр. Я.И. Свирского. Екатеринбург; М., 2010. 895 с.
- Ним Е.Г. Медиапространство: основные направления исследований // Бизнес. Общество. Власть. 2013. № 14. С. 31-41. EDN: STSISX
- Сарнов Б.М. Наш советский новояз. Маленькая энциклопедия реального социализма. М., 2002. 600 с.
- Фуко M. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / пер. с фр. В. Наумова. М., 1999. 480 с.
- Фуко M. Рождение биополитики: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978-1979 учебном году / пер. с фр. А.В. Дьякова. СПб., 2010а. 448 с.
- Фуко М. Психическая болезнь и личность / пер. с. фр. О.А. Власовой. СПб., 2010б. 320 с. EDN: QLYBLV
- Шестерина Е.А. "Новояз" в современном немецком политическом дискурсе // Дискурс профессиональной коммуникации. 2023. Т. 5, № 3. С. 93-106. DOI: 10.24833/2687-0126-2023-5-3-93-106 EDN: CQPWOF