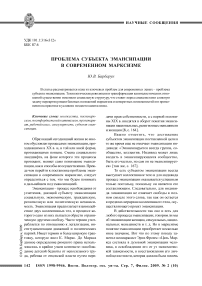Проблема субъекта эмансипации в современном марксизме
Автор: Барбарук Юрий Владимирович
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Научные сообщения
Статья в выпуске: 2 (10), 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается одна из ключевых проблем для современных левых - проблема субъекта эмансипации. Технологические революции и трансформация капиталистических отношений существенно изменили социальную структуру, что ставит перед социалистами сложную задачу переартикуляции базовых положений марксизма и конкретных возможностей его применения на практике в условиях позднего капитализма.
Множества, постмарксизм, постфордистский капитализм, пролетариат, рабочий класс, сингулярность, субъект эмансипации, рost-marxism
Короткий адрес: https://sciup.org/14974319
IDR: 14974319
Текст научной статьи Проблема субъекта эмансипации в современном марксизме
Образ нашей сегодняшней жизни во многом обусловлен процессами эмансипации, проходившими в XX в. и, в той или иной форме, протекающими поныне. Смена социального ландшафта, на фоне которого эти процессы протекают, меняет само понимание эмансипации, как и способы ее осуществления. Прежде чем перейти к постановке проблемы эмансипации в современном марксизме, следует определиться с тем, что мы будем понимать в дальнейшем под эмансипацией.
Эмансипация – процесс освобождения от угнетения, дающий субъекту эмансипации социальную, экономическую, гражданскую, религиозную или политическую независимость. Эмансипация предполагает взаимодействие двух коллективных тел, в процессе которого одно из них пытается обрести ограниченную другими свободу. Часто термин употребляется по отношению к легализации, ин-ституциализации движений и политических партий. Имеет термин и более широкую трактовку, которую ввел К. Маркс. До Маркса данное определение римского права использовалось в крайне узком контексте: освобождение детской бедноты от непосильного труда, ребенка от отцовской власти путем пере- дачи прав собственности, а с первой половины XIX в. вводятся в оборот понятия эмансипации национальных, религиозных меньшинств и женщин [8, с. 164].
Важно отметить, что достижение субъектом эмансипации поставленной цели в то же время еще не означает эмансипации индивида: «Эмансипируется всегда группа, сообщество, коллектив. Индивид может лишь входить в эмансипирующееся сообщество, быть его частью, но сам он не эмансипируется» [там же, с. 167].
То есть субъектом эмансипации всегда выступает коллективное тело и для индивида процесс эмансипации оказывается успешным только постольку, поскольку он является его составляющим. Следовательно, для индивида эмансипация не означает свободы в полном смысле этого слова, так как он остается в пределах иерархии коллективного тела, осуществляющего проект эмансипации.
В действительности так оно и есть для любого процесса эмансипации, говорим ли мы об эмансипации женщин, сексуальных, национальных меньшинств и т. д. Но в марксизме понятие эмансипации приобретает несколько иное значение. Вот что по этому поводу заметил неомарксист Эрих Фромм: «Цель Маркса состояла в духовной эмансипации человека, в освобождении его от уз экономической зависимости, в восстановлении его личной целостности, которая должна была помочь ему отыскать пути к единению с природой и другими людьми» [9, с. 377]. То есть целью марксистского проекта эмансипации являются не какие-либо узкогрупповые интересы, а эмансипация человека как родового существа.
Проект эмансипации К. Маркса в полной мере оформился к 40-м гг. XIX в., что видно уже по «Философско-экономическим рукописям 1844 года», а в дальнейшем только углублялся. Огромное значение для этого проекта имело знакомство Маркса с положением английских промышленных рабочих: наиболее передовая в мире индустриальная страна более других преуспела также и в бесчеловечном характере эксплуатации рабочих, приводящих в движение промышленность. Стремление капиталистов получить максимальную прибыль обусловливало уродливость процесса воспроизводства пролетарского населения, что выражалось в нищенских условиях существования, антисанитарии, тягчайших условиях труда, высокой смертности и необразованности [5, с. 330].
Увиденное Марксом, очевидно, должно было вызвать у него некоторый диссонанс с его безраздельной верой в прогресс, свойственной вообще большинству мыслителей с научным стилем мышления в XIX веке. Действительно, если прогресс не несет человечеству ничего, кроме все более интенсивного угнетения, то не следует ли признать его преступность по отношению к человеку? Маркса, прочно усвоившего принципы гегелевской диалектики, наличие противоречий смутить не могло. Прогресс неумолим, а если будущее должно быть много лучше, нежели прошлое и настоящее, то не только для избранного меньшинства.
Освободительную роль К. Маркс в своем учении отдал рабочему классу. Сегодня трудно сказать насколько очевидным для Маркса был выбор рабочего класса в качестве субъекта эмансипации, ведь ни классики политической экономии, ни позитивисты не уделили рабочему классу сколько-нибудь должного внимания: не разглядели в нем мощный политический потенциал. В ретроспективе же причина такого выбора кажется достаточно простой: в индустриальном обществе рабочий класс составляет большинство, он является производительным и в то же время самым обездоленным. Кто, как не самые угнетенные, должны взять на себя ответственность за ликвидацию существующего порядка, за построение лучшего общества?
В условиях экономического и политического угнетения промышленный пролетариат должен обрести свою идентичность и преодолеть ее в ходе пролетарской революции, уничтожающей частную собственность и классовое общество вместе с капитализмом. Это и будет последним актом эмансипации, избавляющим человека от отчужденного труда: «Еще раз следует подчеркнуть, что Маркс не ограничивал свою цель освобождением рабочего класса, а мечтал об освобождении человеческой сущности путем возвращения всем людям неотчужденного и, таким образом, свободного труда, об обществе, которое живет ради человека, а не ради производства товаров и в котором человек перестает быть уродливым недоноском, а превратится в полноценно развитое человеческое существо» [9, с. 398].
Следует указать, что марксизм являет собой не просто науку о капитализме, но еще и единство теории и практики, причем практики революционной, ориентированной на упразднение капиталистических отношений. Капитализм в классическом марксизме присутствует как объективно необходимая фаза исторического развития, снятие которой должно неизбежно произойти под грузом внутренних противоречий. Но так как история не является чем-то внешним по отношению к человеку, то марксизм в своей рефлексии испытывает потребность в субъекте, стараниями которого разрешится груз исторической необходимости. У Маркса такой субъект был, а у современных левых теоретиков с субъектом эмансипации есть серьезные затруднения. Связаны они с тем, что в сложившихся условиях для левых сегодня крайне важно определиться с целевой аудиторией, если они хотят хоть как-то влиять на положение вещей.
Проблема эта становилась очевидной уже к тому моменту, когда технологическая революция и сопутствующие ей социальные процессы в послевоенный период привнесли существенные изменения в структуру индустриального общества, а позже позволили перейти в постиндустриальную фазу. Вот как эту проблему видят постмарксисты М. Хардт и А. Негри: «Мы должны понять, что сам субъект труда и революции претерпел глубокие изменения. Пролетариат стал иным по своему составу, и потому должно измениться и наше понимание пролетариата... В предшествующую эпоху понятие пролетариата преимущественно ограничивалось, а порой и полностью сводилось к понятию промышленного рабочего класса, типичным представителем которого служил занятый на предприятии, выпускающем серийную продукцию, рабочий мужского пола. Этому промышленному рабочему классу обычно отводилась ведущая роль среди прочих представителей труда (скажем, крестьянского или репродуктивного) как в экономических исследованиях, так и в политических движениях. Сегодня этот рабочий класс практически исчез из вида. Он не прекратил своего существования, но он уже не занимает привилегированное положение в капиталистической экономике и не играет главенствующую роль в составе пролетариата. Пролетариат стал иным, но это не значит, что он исчез. Скорее это означает, что перед нами вновь встала аналитическая задача понимания, каким теперь является состав пролетариата как класса» [7, с. 63].
Если многие западные марксисты еще в начале XX в. утверждали, что рабочий класс не может взять на себя роль авангарда человечества, то ныне подобные воззрения имеют под собой еще больше оснований. В рядах левых нет единого мнения относительно того, кто должен быть их целевой аудиторией. Немногочисленные ортодоксальные марксисты склонны по-прежнему опираться на промышленный пролетариат, а большинство европейских постмарксистских левых делают ставку на поддержку сексуальных и национальных меньшинств, феминисток, иммигрантов из стран третьего мира и бывшего социалистического блока (чем, кстати, отталкивают свой традиционный электорат), экологических движений. Американский палеоконсерватор Пол Готфрид, ученик Герберта Маркузе, за подобную политику отказывается даже называть их марксистами: мультикультурализм и эмансипация меньшинств, вероятно, являются необходимым звеном общечеловеческой эмансипации, но вряд ли могут быть ее условием. В лучшем случае «муль-тикультуралистское экспериментирование» оканчивается «положительной» дискриминацией [3]. В подобном свете оказывается, что у современных левых действительно мало общего с марксизмом, исключая фразеологию и атрибутику.
Тем не менее рефлексия современных левых философов в изменившихся условиях не иссякла, и мы можем указать несколько интересных исследовательских проектов, развивающих тему субъекта эмансипации. Одно из наиболее известных направлений – это концепция «множеств» (multitudes), развитие которой мы можем обнаружить в бестселлере А. Негри и М. Хардта «Империя», в «Грамматике множеств» П. Вирно и в работах Д. Агамбена.
В «Империи» А. Негри и М. Хардта более интересна сама постановка проблемы, нежели попытка ее теоретически преодолеть. Авторы развивают концепцию бессубъектной «вездесущей» власти М. Фуко, но на ином, геополитическом уровне. Несмотря на то что всеобъемлющая Империя бессубъектна, А. Негри и М. Хардт задаются вопросом относительно того, кто станет субъектом противостоящим ей: «Ведущая роль в создании прибавочной стоимости, прежде принадлежавшая труду работников массового фабричного производства, во все большей мере переходит к работникам аматериального труда, занятым в сфере производства и передачи информации. Таким образом, необходима новая политическая теория стоимости, которая могла бы поставить проблему этого нового капиталистического накопления стоимости как проблему изучения основного звена механизма эксплуатации» [7, с. 43].
Империя, по мнению Хардта и Негри, является благом по отношению к предшествующим формам социального порядка, но олицетворяет, тем не менее, то зло, которое «множествам» предстоит преодолеть. Таким образом, в роли субъекта эмансипации выступают множества – это представители живого труда постфордистской эпохи: трудящиеся, вовлеченные в коммуникацию, кооперацию, в производство и воспроизводство аффектов. Множества противопоставляются «массам» эры фордизма, они представляют собой «ан- самбль сингулярностей», «единичностей труда». Понятием сингулярности подчеркивается уникальность и творческий характер труда современного пролетариата, в отличие от пролетариата эпохи фордизма. Продукты деятельности множеств носят в основном нематериальный характер, а отчуждение в процессе трудовой деятельности становится еще более глубоким. Постфордистский труд требует не просто способности рабочего к труду, но саму его жизнь, его сущность, в частности, его интеллектуальные возможности, языковую компетенцию и даже его улыбку. Главная особенность множеств – творческая способность производить, способность, на которой всецело покоится капитализм в постфор-дистскую эпоху.
Негри и Хардт включают в состав современного пролетариата как субъекта эмансипации всех тех, чей труд прямо или косвенно подчиняется капиталистическим нормам производства и воспроизводства. Авторы, тем самым, идут по следам Маркса, считавшего, что кооперативный характер процесса труда неизбежно расширяет понятие производительного труда и его носителя, производительного рабочего, то есть «... чтобы трудиться производительно, нет необходимости непосредственно прилагать свои руки; достаточно быть органом совокупного рабочего, выполнять одну из его подфункций» [6, с. 517].
Предрекая Империи неизбежную гибель (капитализм исключительно паразитирует на творческой энергии множеств), Хардт и Негри все-таки подчеркивают, что современные представители пролетариата становятся все более индивидуализированными и дифференцированными: пролетариат расколот по многим направлениям посредством различий и стратификации. Одним из следствий этого является осознание эксплуатируемыми своей беспомощности, а проблемы, являющиеся для множеств общими, таковыми на самом деле не осознаются. Как справедливо отмечают Хардт и Негри, «в наш век, чаще всего называемый веком коммуникаций, борьба стала почти некоммуницируемой» [7, с. 63]. Что до конкретного рецепта борьбы с Империей, то внятного ответа мы не найдем, но авторы подводят нас к мысли, что выпадение из структуры существующих капиталистических отношений создает предпосылки к ее краху.
В «Грамматике множеств» Паоло Вирно также оптимистично указывает, что иммате-риализация труда и господство новых форм субъективности способствуют вызреванию «коммунизма капитала» в существующих условиях. Нечто похожее мы найдем и в других работах этого направления: от лучшего, желаемого миропорядка мы отделены лишь своего рода тонкой мембраной. Вот как метафорически, пересказывая В. Беньямина, говорит об этом Агамбен: «Хасиды рассказывают некую историю о грядущем мире: там все будет точно так же, как и сейчас, наша комната останется прежней, ребенок будет спать все там же, и там мы будем одеты в те же вещи, что и в этом мире. Все будет, как сейчас, но чуть-чуть иначе». Абсолютное, говорит Агамбен, идентично нашему миру, требуется лишь небольшое смещение: «Смещение, конечно же, не относится ни к чему реальному, его нельзя понять в том смысле, что нос блаженного невероятным образом станет чуть короче, или стакан на столе сместится ровно на полсантиметра, или собака во дворе вдруг перестанет лаять. Это неуловимое смещение коснется не состояния вещей, а их смысла и их границ. Оно произойдет не внутри вещей, а на их периферии...» [1, с. 51].
Руководствуясь знаменитой эмпиристс-кой максимой, согласно которой нет ничего в разуме, чего бы не было прежде в чувствах, мы должны будем прийти к тому, что «грядущее сообщество» невозможно себе представить иначе как комбинацию того, что нам может предоставить история или наличное положение вещей. Следует напомнить, однако, что «коммунизм капитала» гипотетически может стать действительностью только для наиболее развитых постиндустриальных стран. В странах же третьего мира проблема вряд ли может быть решена простым смещением, о котором говорит Агамбен. Даже в самых развитых из них, таких как Индия, Мексика или Бразилия, строительство суперсовременных технополисов проходит на фоне голодных крестьянских бунтов: постиндустриализация сосуществует с доиндустриаль-ными формами производства и воспроизводства. Тут встает масса других вопросов: мо- жет ли существовать одна действенная программа эмансипации для развитых и развивающихся стран, возможна ли успешная эмансипация без успешной модернизации и т. д. Так, американский марксист Фредерик Джеймисон считает, что потенциал классического марксизма далеко не исчерпан, тем более он актуален для тех стран, которые до сих пор находятся в стадии индустриализации или переходят к ней. Сам Джеймисон утверждает, что в условиях становления новых международных производственных отношений могут возникнуть соответствующие им классовые отношения в невиданных доселе формах: «...было бы удивительно, если бы в эпоху, когда международный бизнес переживает процесс реорганизации и складывания новых отношений поверх прежних национальных границ, а технологии связи, обмена и создания сетей становятся неизбежными и приводят к множеству непредсказуемых последствий, наемные рабочие из различных национальных зон мировой экономики не смогли бы найти новые способы отстаивания своих собственных интересов» [4, с. 233].
Поэтому, считает Джеймисон, марксистам рано отказываться от понятий класса, классового сознания и классовой борьбы, ведь они прежде всего имеют отношение к подчиненности, ощущению более низкого положения. Следует помнить также, что для капитала эксплуатируемая рабочая сила является лишь одной из переменных в производстве прибавочной стоимости. Как только появляется возможность избавиться от этой переменной, не рискуя нормой прибыли, капитал непременно пойдет на это. Результатом сокращения численности национальных заводских рабочих в условиях глобализации, НТР и участившихся колебаний международной экономики является структурная безработица и усиление позиций капитала по отношению к труду (этому весьма способствует страх перед потерей работы и нищетой). Поэтому Джеймисон полагает, что наиболее вероятными субъектами истории и политического действия могут стать безработные.
Джеймисон, как и многие марксисты сегодня, призывает к работе над демократизацией общественных отношений, предполагая под этим не столько работу в парламент- ских залах, сколько практики низовой демократии, без которой любой проект эмансипации окажется тщетным. Как отмечал П. Бурдье: «...доминирующие существуют всегда, тогда как доминируемые существуют лишь тогда, когда мобилизуются или располагают инструментами представительства» [2, с. 235]. Безуспешность же политической борьбы современного пролетариата в ближайшей перспективе определена именно его сингулярностью, отсутствием чувства плеча, которое прежний промышленный пролетариат обретал в процессе совместной производительной деятельности.
Подводя итог, можно назвать закономерным то, что современные западные марксисты в стремительно меняющихся социальных условиях ищут пути к обновлению теории, созданной в контексте индустриализации, открывают новые проблемные зоны. Ведь меняется сам характер капитализма, а значит, и характер эксплуатации, что неизбежно сказывается на типе социальных отношений и вынуждает к поиску новых ориентиров и стратегий.
Список литературы Проблема субъекта эмансипации в современном марксизме
- Агамбен, Д. Грядущее сообщество/Д. Агам-бен//Социологическое обозрение. -2008. -Т. 7. -№2. -С. 47-54.
- Бурдье, П. Социология политики: пер. с фр./П. Бурдье; сост., общ. ред. и предисл. Н. А. Шматко. -M.: Socio-Logos, 1993. -336 с.
- Готфрид, П. Странная смерть марксизма/П. Готфрид. -М.: ИРИСЭН: Мысль, 2009. -249 с.
- Джеймисон, Ф. Реально существующий марксизм/Ф. Джеймисон//Логос. -2005. -№3 (48). -С. 210-246.
- Маркс, К. Соч./К. Маркс, Ф. Энгельс. -2-е изд. -М.: Гос. изд-во полит. лит., 1960. -Т. 2. -651 с.
- Маркс, К. Соч./К. Маркс, Ф. Энгельс. -2-е изд. -М.: Гос. изд-во полит. лит., 1960. -Т. 23. -907 с.
- Негри, М. Империя/М. Негри, М. Хардт; пер. с англ. под ред. Г. В. Каменской, М. С. Фетисова. -М.: Праксис, 2004. -440 с.
- Танхилевский, А. Г. Эмансипация как философская проблема/А. Г. Танхилевский//Vita Cogitans: альманах молодых философов. -Вып. 2. -СПб.: С.-Петерб. филос. о-во, 2003. -С. 164-183.
- Фромм, Э. Душа человека/Э. Фромм. -М.: Республика, 1992. -430 с.