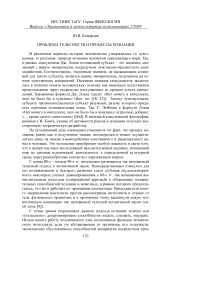Проблема телесности и процессы познания
Автор: Комарова Юлия Владимировна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Обзоры
Статья в выпуске: 7, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/146120440
IDR: 146120440
Текст статьи Проблема телесности и процессы познания
ПРОБЛЕМА ТЕЛЕСНОСТИ И ПРОЦЕССЫ ПОЗНАНИЯ
В различные периоды истории человечества утверждалась то чувственная, то разумная природа познания человеком окружающего мира. Так, в рамках сенсуализма Дж. Локка познающий субъект – это индивид, связанный с миром эмпирически, посредством чувственно-предметного взаимодействия. Соответственно, эталонным знанием, не вызывающим сомнений для такого субъекта, является знание эмпирическое, полученное на основе чувственных восприятий. Основная позиция сенсуалистов заключалась в попытке понять человеческую психику как имеющую естественное происхождение через посредство поступающих из органов чувств впечатлений. Знаменитая формула Дж. Локка гласит: «Нет ничего в интеллекте, чего не было бы в чувствах» (Цит. по: [18: 32]). Такому чувствующему субъекту противопоставляется субъект разумный, разуму которого придается огромная познавательная мощь. Так, Г. Лейбниц к формуле Локка «Нет ничего в интеллекте, чего не было бы в чувствах» остроумно добавил: «… кроме самого интеллекта» [Ibid]. В немецкой классической философии, начиная с И. Канта, учение об активности разума в познании получает всестороннюю теоретическую разработку.
На сегодняшний день очевидным становится тот факт, что процесс познания, равно как и полученное знание, неоднороден и может осуществляться лишь на основе взаимодействия чувственного и рационального начал в человеке. Это положение приобретает особую важность в свете того, что в центре научных исследований находится живой индивид, познающий мир по законам психической деятельности, в определенной культурной среде, через разнообразные контакты с окружающим миром.
С конца 80-х – начала 90-х гг. интенсивно развивается так называемый телесный подход в когнитивной науке. Непосредственным стимулом для его возникновения и быстрого развития стала глубокая неудовлетворенность некоторых ученых доминировавшим с 60-х гг. так называемым вычислительным подходом (computational approach) к объяснению познавательных способностей человека и животных, в рамках которого предполагалось, что мозг работает по принципам компьютера. Представители нового направления выступили против рассмотрения интеллекта в отрыве от тела, физического организма, и в противовес этому выдвинули новую теоретическую концепцию так называемой телесной когнитивной науки (см. об этом: [9]).
С точки зрения сторонников данного подхода познание телесно или «отелеснено»; детерминировано способностью видеть, слышать, ощущать. Нельзя понять работу человеческого ума, когнитивные функции человеческого интеллекта, если ум абстрагирован от организма, его телесности, эволюционно обусловленных способностей восприятия посредством орга- нов чувств (глаз, уха, носа, языка, рук), от организма, включенного в особую ситуацию, экологическое окружение.
Познающее тело погружено в широкое – внешнее природное и, в случае человека, социокультурное окружение, оказывающее на него свои влияния. Опыт взаимодействия живой системы со средой (когнитивный опыт) закрепляется в структурах нервной системы. Телесный подход предлагает срединный путь понимания взаимоотношения субъекта (агента) и объекта (предмета или среды). С одной стороны, он далек от субъективного идеализма, в котором только субъект активен, а внешний мир, если он вообще признается существующим, есть лишь проекция его активности. Но, с другой стороны, далек он и от позиции, которую можно назвать объективизмом, где линии детерминирующего воздействия идут исключительно от внешнего мира к субъекту и где субъект сталкивается с жесткой, противостоящей ему как недвижимая стена средой, к которой ему остается лишь в одностороннем порядке приспосабливаться [9].
Эти положения созвучны мнению известного психолога У. Найссера, считавшего познавательные акты актами взаимодействия индивида с миром. «Такое взаимодействие не просто ин формирует индивида, оно также транс формирует» [12: 33]. В своих исследованиях, проведенных в 70-х гг., этот ученый показал, что воспринимаемое, поступая в мозг, ложится на предуготовленную схему – формат. Существующий на данный момент формат задается суммой предыдущих восприятий, что свидетельствует о самоорганизации познавательного процесса и его гибкой приспосабливае-мости исходя из предшествующего опыта. С одной стороны, субъект безотчетно создает для себя «когнитивную карту среды», которая направляет его восприятие, а с другой – сами объекты предоставляют возможности, которые могут быть восприняты или не восприняты субъектом [Op. cit.].
Следует обратить внимание на такой важный аспект когнитивных процессов, как постоянное взаимодействие тела и разума: как указывает Е.Н. Князева, «познание является постоянным взаимодействием того, что кажется внешним, и того, что кажется внутренним» [8].
В связи с обсуждением проблемы взаимодействия тела и разума нельзя обойти вниманием трактовку понятия «телесность», предложенную отечественными психологами [1; 2; 7: 10: 11: 17]. По мнению Т.С. Леви, понятия «тело» и «телесность» отличает мера жизненности [10]. Исследователь отмечает, что в современном русском языке используется одно слово «тело», обозначающее разное содержание, но если обратиться к языковой традиции, то можно обнаружить, что ранее было два слова: «тело» и «тель». Первое обозначало безжизненную материю, в то время как второе – живого, чувствующего человека. В немецкой традиции также существует два слова: Körper – ‘физическое тело’ и Lieb – ‘динамическая форма, через которую человек являет Себя’ [Op. cit.: 6].
Таким образом, «тело» означает, прежде всего, физический объект, не несущий субъективности и духовности. Телесность, являясь посредником между душой и телом, формирует единое пространство, что позволяет изучать психологические феномены в их естественной целостности [Ibid].
Основа телесности человека закладывается в утробе матери, поскольку факторы объективной и субъективной жизни матери и ее отношение к ним опосредованно оказывают на плод в утробе воздействие через ее психовегетативные реакции. Процесс познания всегда связан с развитием телесности: младенец начинает познавать себя с осознавания собственного тела. Ребенок открыт миру, тело является единственным посредником между ним самим и окружающим миром. Такой мощный инструмент познания, как слово, также несет в себе следы телесности. Человеческая телесность является результатом процесса онтогенетического, личностного развития – в широком смысле исторического развития – и выражает культурную, индивидуально-психологическую и смысловую составляющие человеческого существа [11: 410–411].
Основным проявлением телесности, В.П. Зинченко считает живое движение. Оно иначе, чем механическое, связано с пространством и временем; оно направлено на решение жизненных задач, имеющих смысл для живого существа; создаваемое с его помощью субъектное, или живое, пространство имеет, наряду с метрическими и топологическими категориями, также и смысловое измерение [7].
Е.Э. Газарова также отмечает, что «телесность человека не идентична телу» и является самостоятельным феноменом, изучение которого предполагает междисциплинарное взаимодействие [1: 5]. По мнению исследователя, тело человека – это живая, открытая, оптимально функционирующая сложнейшая, саморегулирующаяся и самообновляющаяся биологическая система с присущими ей принципами самосохранения и приспособляемости [2: 560]. Эта система находится во взаимодействии с окружающей средой и нуждается в постоянном обмене энергией (веществами) с ней. Именно потому она подвержена постоянному влиянию раздражителей внешней и внутренней среды, которые являются новой информацией и перерабатываются нейро-гуморальной системой организма. Телесность – качество, сила и знак телесных реакций человека, формирующихся с момента зачатия в процессе всей жизни, это объективно наблюдаемое и субъективно переживаемое выражение и свидетельство вектора совокупной энергии индивида (от греч. energeia – ‘деятельность, активность, сила в действии’). Телесность проявляется в характерных движениях, позах, осанке, дыхании, ритмах, темпах, температуре тела, запахе и звучании (сравните с «живым движением» у В.П. Зинченко).
На снятии жесткого противопоставления между духовным и телесным настаивает П.Д. Тищенко: «Мы непосредственно общаемся друг с другом, не совершая никакого дополнительного действия перевода внешнего – телесного на язык “внутреннего” – психического. То, что метафизика прячет во “внутреннем”, присутствует в живом опыте непосредственно. Слово или улыбка другого радует или печалит душу непосредственно. Например, в живом опыте речевого общения два человека беседуют друг с другом как нерасчлененные на противоположности души и тела существа» [17: 140].
Следует признать, что подобные мысли высказывались еще Г. Паулем в его работе «Принципы истории языка», переведенной на русский язык с немецкого в 1960 г. Г. Пауль отмечал, что вследствие того, что прямое психическое общение между индивидами невозможно, оно всегда будет опосредованно физическими связями, а процесс общения заключается в том, что одна душа вызывает в другой душе сочетание представлений, соответствующее своему собственному, образуя при помощи моторных нервов физический продукт, возбуждающий сенсорные нервы другого индивида и вызывающий установление ассоциативных связей. Среди физических продуктов, которые способствуют «психическому общению», исследователь называл мимику, жесты и главнейший из них – язык [13].
Исследование проблематики взаимодействия тела и разума не обошло стороной и науку о языке. Включение телесности в пространство языка и его носителя отражается в названиях таких современных научных направлений, как корпореальная семантика, психосемантика, психосемиотика телесности.
В задачу психосемантики входит реконструкция индивидуальной системы значений, через призму которой происходит восприятие субъектом мира, других людей, самого себя, а также изучение ее генезиса, строения и функционирования [14]. Ключевой проблемой как для понимания познавательных процессов, так и для изучения динамики развития личности, по мнению В.Ф. Петренко, развивающего идеи психосемантики, является исследование взаимосвязи когнитивной и аффективной сфер. В.Ф. Петренко считает, что «любое знание является выстраданным, и в порождении этого знания были завязаны очень сильные эмоциональные движения и т.д.» [15].
Эта мысль созвучна тому, что мы находим у Е.Э. Газаровой, подчеркивающей, что из всей получаемой информации «… только значимая и (или) прожитая эмоционально (пережитая) оставляет прочные биопсихические следы. Они образуются совместно психикой и нейро-гуморальной системой в виде ощущений, образов восприятий, следов памяти, мыслей, рефлексивных образов, вегетативных и мышечно-суставных паттернов, аффективных реакций, состояний организма и стереотипов поведения [1: 46].
Корпореальная семантика по сути дела восстанавливает роль тела в теории языка и значения. В русле этого подхода познание происходит с опорой на картину мира, в которую человек вписывает свое существование, при этом большое значение придается невербальным знакам. По мнению Х. Рутрофа, язык ничего не значит без телесности (corporeality), а невербальные знаки (представляющие собой тактильные, обонятельные, вкусовые, слуховые, зрительные и другие перцептивные прочтения мира и их фантазийные варианты) находятся в постоянном взаимодействии [21] (обсуждение проблемы см. в: [4]). К примеру, услышав слово «кислый», индивид сразу же представляет себе вкус клюквы или лимона. Очевидно, что это взаимодействие ощущений составляет глубинную структуру языка и является базой для образа мира и языковых значений.
В книге Ф. Пулфермюллера утверждается, что современная лингвистика грешит описанием языка в довольно абстрактной манере, забывая о том, при изучении такого сложного явления необходимо обращаться к его мозговой природе. Лингвист при этом сравнивается с астрономом, который изучает звезды, но отказывается говорить об их компонентном составе и движущих силах. Исследователь считает, что за последние 20 лет накоплен большой объем информации о нейронной природе языка, и если придерживаться точки зрения, что язык является биологической системой и органом мозга (brain organ), необходимо обратиться к достижениям нейронауки [22: 270–272].
В ходе масштабных исследований было установлено, что высокочастотные реакции, зафиксированные в двигательной и зрительной областях головного мозга, свидетельствуют о различении слов разных категорий, а также различении слов и бессмысленных псевдослов. Слова вызывают более сильную мозговую активность, чем псевдослова (wordlike material). Полнозначные слова активируют функциональные сети, вызывающие быструю скоординированную отражательную активность нейронов, что нехарактерно для восприятия псевдослов. Эти данные дают возможность уверенно говорить о том, что основа процесса переработки слов лежит в мозге [Op. cit.: 274]. Более того, информация о слове и частях тела, посредством которых можно оперировать объектом (если это слово – существительное) или совершать действие (если это слово – глагол), представленным данным словом (например: ходьба – ноги ), вплетены в одну и ту же нейронную сеть (например: действия и объекты, связанные с ногами, – leg words) и активируются практически одновременно [Op. cit.: 62]. Это утверждение, по сути, звучит как подтверждение тому, что в живой системе «человек» телесное и психическое взаимосвязано. Таким образом, ментальные процессы увязываются с картированием тела в мозге, в ходе которого происходит портретирование наборами нейронных паттернов ответов на раздражители окружающей среды.
Нейрофизиолог А. Дамазио определяет проблему «разум – тело» как ведущую для современной науки о человеке и полагает, что всякое вербальное описание того, что лежит за словом у человека, является выводным знанием, которое построено на базе потенциального набора активируемых в памяти репрезентаций некоторых сущностей или событий. Автор также неоднократно подчеркивает, что тело и мозг, в котором возникает разум, являются интегрированным организмом и взаимодействуют посредством многочисленных связей [19] (см. подробный анализ и обзор работ этого автора: [5; 6]).
Для психолингвистики рассматриваемая проблема актуальна в плане выяснения того, что лежит за словом в сознании человека и делает возможным решать сложные задачи познания мира. Проблема телесного в слове преломляется А.А. Залевской в идее естественного семиозиса. Рассматривая некоторые особенности мыслительных операций означивания, А.А. За-левская соглашается с Х. Рутрофом в том, что означаемые естественного языка требуют тела и эмоций для того, чтобы стать семантически функциональными [4]. В ее трактовке естественный семиозис – «… комплекс процессов выбора стратегий и опор, обеспечивающих, с одной стороны, “перевод” функционирующего в культуре знака на индивидуальный “язык”, понимания и переживания означаемого именем содержания, а с другой стороны – поиск имени, которое способно выступить в качестве социально признанного знака, позволяющего партнерам по коммуникации “высветить” в своем перцептивно-когнитивно-аффективном опыте опоры, в достаточной мере согласующиеся для взаимопонимания» [Op. cit.: 52]. При этом делается уточнение, что процедура установления соответствия между означаемым и означающим является всего лишь промежуточным этапом естественного семиозиса, а социально принятый знак – инструмент выхода на индивидуальную картину мира [Ibid].
В концепции Ю. Джендлина телесное ощущение значения (meaning) реализуется в так называемом чувственном смысле (felt sense) [20: 10]. Чувственный смысл невыразим словесно, это нечто глубинное, смутное, нечеткое. Он представляет собой единство души и тела, переживается в теле. В нем можно выделить мысль и чувство, долг и желание. Когда мы хотим что-либо сказать, до того, как найдем нужные слова, мы уже имеем чувственный смысл того, что мы хотим выразить. Чувственный смысл включает в себя значение, которое мы хотим выразить; эмоциональную окраску, которую мы хотим ему придать; причины, по которым мы хотим сказать это именно этим людям; реакцию, которую мы надеемся получить от них [Op. cit.: 85].
О синтезе телесных и психических корней в структуре значения слова говорит и Т.М. Рогожникова. Автор предлагает рассматривать слово как психосоматическое единство, при этом употребляемый ею термин «соматический» (в переводе с греч. – ‘телесный, связанный с телом’), вовсе не предполагает его противопоставление психическому, как это принято делать в медицине, из которой заимствован названный термин [16].
Л.В. Газизова в материалах проведенного ею ассоциативного эксперимента, целью которого было выяснение стратегий идентификации полисемантичных слов испытуемыми, обнаружила опоры, квалифицированные автором как «реакции-ощущения». Выделенные опоры являются убедительными свидетельствами того, что информация переживается на уровне перцептивно-сенсорной обработки, а результат этой обработки обозначается как вербальный образный продукт, обладающий пространственновременными, тактильно-осязательными характеристиками [3: 138] . Это то, что называется «соматическими (телесными) переживаниями значения слова», когда тело уже знает то, что мозг обрабатывает и переводит в понимаемую нашим сознанием информацию [16: 102, 107].
В нашем исследовании предпринимается попытка выявить следы взаимодействия тела и разума в процессах идентификации незнакомого слова человеком как первой ступени познания нового. Мы полагаем, что плотный характер взаимодействия, взаимовлияния и взаимопроникновения психики и тела соединяет энергии тела и психики в единую биопсихиче-скую энергию человека и является неотъемлемой частью процессов познания и общения.