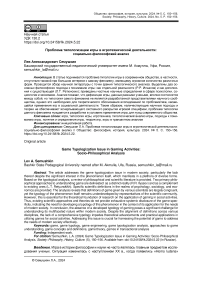Проблема типологизации игры в игротехнической деятельности: социально-философский анализ
Автор: Семушкин Л.А.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 5, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье поднимается проблема типологии игры в современном обществе, в частности, отсутствия таковой при большом интересе к самому феномену, имеющему огромное количество различных форм. Проводится обзор научной литературы с точки зрения типологического анализа. Выделены два основных философских подхода к пониманию игры: как отдельной реальности (Р.Р. Ильясов) и как дополнения к существующей (Л.Т. Ретюнских); приведены частные научные определения в сфере психологии, социологии и экономики. Анализ показал, что дефиниции игры, данные разными учеными, вполне соотносятся между собой, но типология самого феномена не является разработанной представителями научного сообщества, однако это необходимо для теоретического обоснования исследований по проблематике, касающейся применения игр в социальной деятельности. Таким образом, наличествующие научные подходы и теории не обеспечивают исчерпывающего системного раскрытия игровой специфики, проблема типологии данного феномена нуждается в разработке в условиях применения игры для нужд современного общества.
Игра, типология игры, игротехника, типологический анализ игры, подходы к пониманию игры, понятия и определения игры, теория игр, игры в транзактном анализе
Короткий адрес: https://sciup.org/149145912
IDR: 149145912 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24158/fik.2024.5.22
Текст научной статьи Проблема типологизации игры в игротехнической деятельности: социально-философский анализ
Й. Хёйзинги (Хёйзинга, 2001) и «Игры, в которые играют люди» Э. Берна (Берн, 1992), начал применяться метод прикладной математики, который именуется «теория игр», и прочие. Но игре как таковой до сих пор редко уделяется центральное место в современном исследовании. С другой стороны, сегодня интерес к игре и к игровым формам досуговой деятельности возрос. Это можно заметить не только ввиду появления новых сфер развлекательной индустрии, но и по возникновению многочисленных сообществ игроков, каналов в СМИ с игровой тематикой. Благодаря массовым средствам передачи информации вымышленные вселенные, используемые в играх, стали достоянием не только определенных игротехнических групп и фирм, но и широкой общественности. Хотя этот уровень познания игры далек от научного и философского, многие разработчики ориентируются на свой игровой опыт, эмоциональные переживания и собственные представления.
Иным образом открывается проблема изучения игры в некоторых исследованиях современников. Как правило, представляются две противоречащие тенденции: осуждение игр (в основном, компьютерных) (Л.С. Пчелинцева1, Т.С. Лашина (Лашина, 2021), Р.Ю. Маркелов (Маркелов, Дудников, 2018), И.Г. Чумпурова (Чумпурова, 2014)) и геймификации (внедрения игрового компонента в иную деятельность) всех доступных производственных процессов (Ю.В. Багаутдинова, С.С. Комаров (Багаутдинова, Комаров, 2023), М.В. Петрайтене (Петрайтене, 2022)), а также изучение игровой тематики как компонента объекта собственного научного интереса (Е.О. Самойлова (Самойлова, 2022, 2023), Ю.М. Шаев (Шаев, 2023)). При этом последователи первого направления часто не имеют эмпирических данных и полного понимания сути феномена игры, а также не осознают значимости игровых технологий для внедрения в ту или иную логику производства (например, в работу сотрудников организации).
Ввиду сказанного возникает вопрос: имеется ли достаточное представление у ученых об игре и ее типах, чтобы на основании базового знания строить те или иные методологии, методики и ценностные ориентиры? Ответ на него мы пытаемся найти в настоящей работе.
Методология исследования . В качестве метода исследования данной проблемы нами использовался типологический анализ (типологизация), направленный на выявление различий и сходств множества объектов. Данный метод требователен к основанию типологии, которая позволяет отобразить качественное содержание рассматриваемых объектов (и/или явлений) и выделяемых типов (Антошкин, Круль, 2012). Типологизация применяется в области социальных, исторических, культурологических дисциплин для определения тех или иных характерных признаков, которые становятся предметом изучения объектов в дальнейшем. Преимущество ее состоит в том, что полученная типология становится основой для применения иных методов, выступает системообразующим фактором. Недостатком же является условность разделения объектов: упрощение взгляда, абстрагирование от полноты свойств, зависимость от критериев, задаваемых логикой исследования.
Для изучения игры и игровой деятельности наиболее часто применяются антропоцентрический, математический и культурологический подходы. Они отвечают потребности в понимании игры как таковой, ее многообразия и значимости в человеческом бытии. С другой стороны, исследователи, изучающие игру в данных подходах, зачастую не углубляются в те или иные различия игр, либо определяя их по категориям (например, компьютерные или живого действия, развлекательные или обучающие), либо акцентируя внимание на той или иной игровой специфике. Для обобщения опыта научного изыскания был выбран типологический анализ с элементами сравнительного анализа.
Типологический анализ исследований игры . При рассмотрении исследований отечественных ученых были выявлены два основных подхода (позиции) к трактовке игры, составляющие ее понятие.
Одна из позиций гласит, что игра – это дополнительная реальность, которая способствует наделению новым, игровым смыслом уже имеющейся. Очень хорошо она освещена в диссертационном исследовании Л.Т. Ретюнских2. Игра в ее рассмотрении привносит новые переживания и смыслы в деятельность человека3. Ученый отмечает, что многое зависит именно от субъективной оценки, а не от внешнего проявления. Полагаясь на западный дискурс, Л.Т. Ретюнских раскрывает игру как всепроникающее специфическое переосмысление субъектом представленной ему реальности, что приводит к качественному изменению процесса его (субъекта) деятельности. Отделение же игры от иной деятельности, в частности, работы, происходит через обозначение самонацеленности игры, важности ее как определенного процесса, когда работа имеет собственной целью тот или иной результат. С другой стороны, Л.Т. Ретюнских акцентирует внимание не только на противоположности работы и игры, но и на том, что формально эти два вида деятельности могут совпадать1. В таком случае отличить игру от не-игры возможно только исходя из состояния субъекта, его отношения к реализуемой деятельности, качества его включенности в процесс. Таким образом, профессионал спортивной игровой дисциплины может не играть, а бухгалтер, увлеченный расчетами, напротив, играть, получая от своей работы удовольствие. В современных реалиях особенно актуален пример феномена киберспорта, который демонстрирует трансформацию компьютерной игры из некоего хобби в сферу профессиональной состязательной дисциплины (вопрос об отношении «игроков» остается актуальным и здесь, они выходят на арену работать). Более того, исследователь акцентирует внимание на том, что на основании формальной схожести был создан математический метод разработки оптимальной стратегии в отношении любой деятельности – теория игр, который заключается в игровой симуляции реальной деятельности для анализа и отработки стратегии, что сопровождается составлением математической модели. Исходя из полученных формул, возможно составить оптимальный алгоритм действий, взвесить риски и предусмотреть разные варианты событий. Таким образом, Л.Т. Ре-тюнских дает определение игре как комплексному субъективному конструированию дополнительной реальности к реальности подлинной, которая состоит из неких игровых условностей2.
Иную позицию занял Р.Р. Ильясов3. Он рассматривает игру как некоторый модус бытия, который способствует свободному раскрытию человеческой индивидуальности и совершенствованию личности. Игра, по его мнению, является не дополнением к реальности, а отдельным осмыслением действительности наравне с остальными4. Более того, само состояние выбора в моральной дилемме сопоставляется с игрой, на кон в которой человек ставит самого себя, таким образом прослеживая игровые, а следовательно, искренние и свободные аспекты субъектности5. С другой стороны, Р.Р. Ильясов считает, что такое поведение сопряжено с определенными рисками, заигрывание со страстями может сделать человека игрушкой его собственных желаний. В таком случае происходит утрата вовлеченности и участия в иных реальностях (профессиональной, социальносемейной и прочих). Философ отмечает, что и избегание игры как таковой, то есть свободного самовыражения, трансформации и поиска себя в мире, приводит к угнетенному и подавленному состоянию, оторванности от внутренних истин и нравственной свободы. Р.Р. Ильясов также описывает ситуацию, когда человек «вступает» в социальную игру, попадая в зависимость от общественных процессов, что разрушает его свободную волю и внутреннюю (а затем и внешнюю) целостность. Не разделяя прямо, философ определяет конструктивный и деструктивный типы игр. Основное различие их, по его мнению, состоит в отношениях человека с внутренним и внешним ми-рами6. Ярким примером служит психологическая игра, репрезентируемая, например, в исследованиях акмеологов (Селезнева, 2020: 9–10). Обобщая суть подобного учения, следует отметить, что успех человека в одном из аспектов бытия (созвучно с достижением игры, представленным Р.Р. Ильясовым), например, в семейно-супружеских отношениях, переносится им самим на иной, например, профессионально-трудовой. С другой стороны, психологические манипуляции, то есть проявление человеком отношения к себе подобному как к игрушке , являются примером деструктивной игры в трактовке Р.Р. Ильясова. Более того, человек может иметь специфическую мотивацию манипулировать, совершать различного рода действия, которые отражают его собственное состояние игрушки по отношению к его желаниям (например). Таким образом, Р.Р. Ильясов трактует игру как способ специфического творческого существования человека, который наделяет его жизнь новыми смыслами и силами противостояния деструктивному7.
В представленных подходах исследователей к рассматриваемому феномену имеются различия, но есть и общие моменты: ученые сходятся в признании противоречивости и инаковости игры в отношении обыденной действительности. Человек в ней приоткрывается, проявляя свой внутренний потенциал даже ради простых развлекательных целей. Игра способствует переосмыслению им реальности, внесению новых смыслов в свою деятельность, а также раскрытию тех, которые не были для него очевидны до вступления в игру.
С другой стороны, рассмотрение интересующего нас феномена в этих подходах не освещает важного момента для наличествующей индустрии игр – их типологизации. В современных условиях мы имеем огромное количество продуктов и/или услуг, которые именуются играми: настольные, компьютерные, ролевые словесные, ролевые живого действия, психологические, трансформационные. Но что из данного разнообразия действительно является игрой, а что только содержит игровые элементы? Ввиду отсутствия соответствующей типологизации на уровне универсалии ответ на этот вопрос неочевиден.
Типологизацией игр занимаются сегодня исследователи частных научных дисциплин. Рассмотрим некоторые из существующих позиций.
Р. Кайуа разделяет игры по формальным признакам. Он обращает внимание на так называемые «инстинкты» как элементы, определяющие тот или иной тип игры. В результате неполно и формально могут быть выделены четыре: соревновательная игра; азартная игра, основанная на случае, игра-симуляция или мимикрия, игра-экстаз (Кайуа, 2007: 52–72). Исследователем указывается, что в реальности представлены комбинированные типы игр, например, соревнование в симуляции того или иного занятия; получение экстремального удовольствия от мимикрии и подобные примеры. Но, с другой стороны, данное смешение настолько диффузно, что возникают вопросы об актуальности данной типологии. Ко всему прочему она акцентирует внимание на «инстинктах», но вход в ту или иную игру на деле не всегда мотивационно соответствует им. Команда может участвовать в соревновании не для победы, а для получения удовольствия от совместного прохождения испытания. Таким образом, наблюдается расхождение между внешним и внутренним планом в игре. Р. Кайуа обращает свое внимание и на взаимосвязь игр с остальной культурой, на то, как эти «инстинкты» трансформируются в других аспектах жизни общества и человека, настаивая на отграничении иррациональных склонностей субъекта в игровых рамках (Кайуа, 2007: 86). По Л.Т. Ре-тюнских, это – построение дополнительной реальности, в которой человек свободен свободно выражать свои чувства и эмоции, в том числе для обеспечения собственного психического здоровья1. По Р.Р. Ильясову, взаимосвязь игры и жизни общества очевидна, но различного рода отграничения так называемого иррационального могут привести к тому, что игра станет пагубной для человека, так как играть уже будут с ним его иррациональные составляющие, а не он сам2.
На основании таких расхождений построено понимание игры в транзактном анализе. Э. Берн отмечает, что есть коммуникативные психологические игры между людьми, основанные на сокрытии истинных мотивов при общении (Берн, 1992). Таким образом, человек во время взаимодействия с остальными вносит новые контексты, играя «двойную» (а то и «тройную» и более) роль. Сам же психолог разделяет игры на конструктивные и деструктивные, приводя некоторые из наиболее распространенных сценариев. С другой стороны, в данном понимании игра, хоть и попадает под определение и Р.Р. Ильясова (так как отображает духовное состояние личности в данном психическом акте), и Л.Т. Ретюнских (так как это дополнение к некоторому акту коммуникации), но является чем-то обыденным для человека. Э. Берн раскрывает, что игра не всегда возникает стихийно, люди учатся применять внесение дополнительного плана общения, разрабатывают его для применения в собственных целях, например, в сфере продаж. Но, в отличие от других исследователей, взгляд Э. Берна обращается к важной составляющей игры – мотивации входа . Человек не может навязать игру другому, особенно против его интересов, ввиду чего она строится так, чтобы субъект сам вовлекался в нее. Э. Берн описывает случай, когда женщина вступила в брак, выбрав в качестве супруга человека чрезвычайной строгости, чтобы иметь оправдание своей низкой социальной активности, при выходе за рамки которой испытывала страх и дискомфорт (Берн, 1992). Таким образом, игра была дополнительным планом реальности для создания семьи (по Л.Т. Ре-тюнских), а супруг выступал некоторой игрушкой, которая «спасала» от страха перед некой общественной жизнью (по Р.Р. Ильясову). Ко всему прочему, такая психологическая игра становится частью общей жизненной стратегии человека, дополняя ее, а при должном анализе репрезентируя его глубокие переживания. Она выступает неким способом (используемым спонтанно или намеренно) расширения смысла коммуникации, общения людей, который отражает соотношение их внутреннего психологического состояния и внешнего социального статуса (Берн, 1992).
Игру как раскрытие той или иной стратегии (в частности, экономической) рассматривают Дж. фон Нейман и О. Моргенштерн в своей теории игр. Данные ученые обнаружили схожесть экономических и игровых процессов в построении стратегии, занимаясь разработкой соответствующих математических моделей (Нейман, Моргенштерн, 1970: 68–69). Исследователи оспаривают понимание игры, репрезентированное Й. Хёйзингой (Хёйзинга, 2001), в аспекте отсутствия в такой деятельности той или иной материальной выгоды, так как стратегии игр переносятся на процессы в сфере экономики без смены статуса. Дж. фон Нейман и О. Моргенштерн разделяли игры на развлекательные (с нулевой суммой) и иные (Нейман, Моргенштерн, 1970: 72–73). Таким образом, реально создать игровую симуляцию, в рамках которой возможно разработать оптимальную стратегию достижения поставленной цели. В некотором смысле это одна из первых геймификаций. С другой стороны, разработка оптимальной стратегии требует качественной передачи всех условий, что определяет требования к тому, каким образом будет построена игровая симуляция. Ученые разрешили этот вопрос через составление математических расчетов, актуальных и для развлекательных, и для экономических игр. Предложение поиграть в экономику несколько схоже с подходом Л.Т. Ретюнских ввиду воссоздания в рамках игрового процесса имитации соответствующих процессов. Проникновение игры в различные сферы бытия человека также рассматривается и Р.Р. Ильясовым, но стремление к оптимальной стратегии может трактоваться как некоего рода «заигрывание», а вкупе с математическими обоснованиями так и вовсе как сведение игры к принципу необходимости. С другой стороны, как процесс поиска оптимального решения и следование ему она соответствует видению философа.
В современных условиях описанные выше подходы частнонаучного характера не могут полностью объяснить все разнообразие игр. Например, компьютерная так называемая игра SOMA, предоставляющая возможность стать участником той или иной истории от автора, которая является иллюстрацией той или иной философской проблемы (бессмертие через копирование сознания на искусственный носитель), – это игра или интерактивное произведение искусства? Так, по Р. Кайуа, компьютерные игры, связанные со взаимодействием не с другим игроком-человеком, а с ботом (автоматизированным компьютерным кодом), являются соревновательными или нет? А ролевые игры живого действия, мотивацией входа в которые является не сам по себе специфичный маскарад, а симуляция той или иной ситуации (например, любительская историческая реконструкция рыцарских боев с целью поиска острых ощущений)? Как классифицировать ролевую игру, в рамках которой игровой персонаж вступает и в соревнование (например, противостояние персонажей между собой), и в игру со случаем (например, герой играет в азартную игру внутри игрового пространства), и в игру мимикрии (например, персонаж игрока является шпионом, который притворяется другим человеком), и в игру получения экстаза (например, персонаж попадает на аттракцион)? К какой категории будут отнесены трансформационные игры, которые состоят не только в рефлексии той или иной стратегии, но и в изменении таковой в отношении того или иного аспекта бытия? А настольная кооперативная игра, в которой либо все члены команды побеждают, либо все проигрывают (притом что команда в игре одна), к какому типу может быть отнесена? Более того, игры бытового характера, о которых писал Э. Берн (Берн, 1992), относятся к какому типу по тому же Р. Кайуа?
Разработчики игр (игротехники) и собственно игроки пытаются разделить игры по жанрам, состоянию, возникающему у субъекта во время прохождения, и так далее. Некоторые из данных параметров являются неоднозначными и для самих игроков. Если присмотреться к их попыткам типологизации, они пытаются оперировать теми или иными элементами структуры игры , которая также является чем-то неоднозначным с точки зрения современной философии. Ввиду отсутствия понимания типов и структуры игр на универсальном уровне нет четкой методологической базы и для разработчиков. Ситуация такова, что игротехники постепенно нащупывают игровую специфику, которую воспроизводят в своих продуктах. Известны случаи, когда компьютерная игра, будучи разработанной на основе спонтанной идеи, была принята игроками крайне положительно, однако последние ее части стали менее привлекательными для субъектов ввиду требований инвесторов (примером такой серии игр является линейка Gothic).
В игровых сообществах можно найти множество материалов о том, какие существуют жанры игр, что можно ожидать от конкретных продуктов в каждом из них, каков имеющийся ассортимент игр в определенном жанре и т. д. Авторы данных материалов зачастую критикуют игры за те или иные несоответствия, они даже иногда вступают в спор с другими игроками и разработчиками – игротехниками. На просторах глобальной информационной Сети в виде текстов или видеообзоров можно найти различные оценки игр в отношении их содержания , типа , но подобные материалы, содержащие анализ и сравнение продуктов игровой индустрии, не могут рассматриваться наукой как нечто серьезное. С другой стороны, у ученых нет альтернативы им, поскольку нет современной концепции типов игр, чтобы четко ориентироваться в мире игровой индустрии. Важно заметить и то, что сами разработчики не всегда могут выдать качественный продукт, что объясняется не только сложностями в производстве, конфликтами с издательствами (которые заинтересованы в выгоде), холодной оценкой игроков, а в том, что у всего перечисленного ранее нет ни обоснованной концепции, ни системного базиса, что и порождает львиную долю вызовов в игротехнике. Зачастую маркой качества является та или иная студия разработчиков, выпускающих игры в определенной логике, которая устраивает ту или иную аудиторию игроков, но такого рода «брэнд» не может являться критерием для типологизации. К сожалению, именитые студии не обращаются к научной методологии для рефлексии своего успеха (или неудач).
Заключение. Резюмируя, необходимо сказать, что в современной науке нет единой типологии игр, которая, даже будучи гибкой (например, комбинированные типы игр Р. Кайуа), смогла бы охватить все формы игровой специфики. Среди исследователей нет единой позиции касательно статуса игры, что само по себе не является чем-то негативным, они не рассматривают непосредственно игровые типы, обращая свое внимание, скорее, на их направленность: внешняя игровая деятельность и действительное игровое участие – у Л.Т. Ретюнских, игра с миром как нечто творческое в бытии человека и позиция игрушки мира и/или собственных страстей – у Р.Р. Ильясова.
Многообразие научных определений игры свидетельствует о потенциале данного феномена как модели процесса и метода выведения оптимальной стратегии, а также о потенциале многоплановости коммуникации, представления влечений человека в сложной социальной форме. Но ученые ставят акценты в изучении интересующего нас феномена в зависимости от своей дисциплинарной специфики, что, скорее, соответствует описанию того или иного типа игры, чем осмысления всего их многообразия.
С появлением новых возможностей по производству и распространению игр интерес к ним возрастает, ввиду чего в игровых сообществах возникает множество ненаучных типологизаций обыденно-практического характера, которые используются игроками и разработчиками. Однако ввиду отсутствия понимания концепции игры и свойств ее типов последние не могут свободно ориентироваться в игротехническом пространстве, поэтому конечный продукт их деятельности может представлять собой что угодно, к чему по наитию применимо слово «игра».
Формулируя выводы, сведем их к следующим пунктам:
-
1. На данный момент имеются два основных подхода к пониманию игры (как дополнительной и самостоятельной реальности) и ряд научных определений, раскрывающих игровые аспекты в различных дисциплинах и сферах общественной жизни человека.
-
2. Современные фундаментальные научные исследования не содержат актуальной типологии игр.
-
3. Актуальная рефлексия темы типологии игры имеет, как правило, обыденно-практический характер, научные исследования нуждаются в более современной методологической базе.
-
4. Необходимость философской и научной типологизации игр определяется потребностью в таковой в аудитории не только игроков, но и игротехников, которые на коммерческом уровне занимаются разработкой игр.
Таким образом, с позиции философской проблематики нами осмыслен концепт типологи-зации игры в качестве перспективного направления для исследования. В связи с этим в дальнейшей работе мы планируем осуществить анализ зарубежного опыта осмысления игры как феномена, раскрытие его значимости в духовной жизни общества, провести изучение научных работ по теме структуры игр. Логика исследования подразумевает также разработку авторской типологии и модели структуры игры.
Список литературы Проблема типологизации игры в игротехнической деятельности: социально-философский анализ
- Антошкин В.Н., Круль А.С. Типологический анализ как метод исследования информационной структуры социальных систем // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2012. № 3 (23). С. 65–76.
- Багаутдинова Ю.В., Комаров С.С. Внедрение геймификации на предприятиях: эффективный подход к мотивации и повышению производительности // Журнал прикладных исследований. 2023. № 7. С. 66–73. https://doi.org/10.47576/2949-1878_2023_7_66.
- Берн Э.Л. Игры, в которые играют люди: психология человеческих взаимоотношений; люди, которые играют в игры: психология человеческой судьбы. СПб., 1992. 400 с.
- Кайуа Р. Игры и люди. М., 2007. 304 с.
- Лашина Т.С. Цифровой образовательный ресурс – компьютерная игра. Исследование. Польза и вред // Современные проблемы науки и образования. 2021. № 6. С. 1–9. https://doi.org/10.17513/spno.31407.
- Маркелов Р.Ю., Дудников С.А. Влияние компьютерных игр на разум человека и его отношение к обществу // Молодой ученый. 2018. № 25 (211). С. 248–250.
- Нейман фон Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. М., 1970. 707 с.
- Петрайтене М.В. Развитие восприятия цвета у обучающихся с умственной отсталостью с помощью игровых психолого-педагогических технологий // Человек в условиях социальных изменений. Уфа, 2022. С. 252–254.
- Самойлова Е.О. Модели гендерных ролей и их репрезентация в современных видеоиграх // Общество: философия, история, культура. 2022. № 12 (104). С. 147–153. https://doi.org/10.24158/fik.2022.12.23.
- Самойлова Е.О. Особенности проявления гендерных характеристик в околоигровом феномене кроссплея // Общество: философия, история, культура. 2023. № 12 (116). С. 173–181. https://doi.org/10.24158/fik.2023.12.24.
- Селезнева С.М. Феномен «акме» в историко-философском осмыслении // Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки. 2020. № 1. С. 5–13. https://doi.org/10.24411/2308-7226-2020-10001.
- Хёйзинга Й. Homo Ludens (человек играющий). М., 2001. 350 с.
- Чумпурова И.Г. Негативное влияние компьютерных игр // Культура. Духовность. Общество. 2014. № 15. С. 134–137.
- Шаев Ю.М. Топосы нарратива компьютерных игр и особенности репрезентации гендерных образов // Общество: философия, история, культура. 2023. № 12 (116). С. 134–141. https://doi.org/10.24158/fik.2023.12.18.