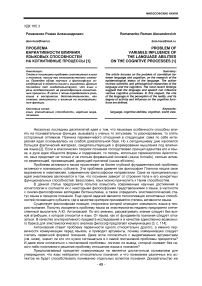Проблема вариативности влияния языковых способностей на когнитивные процессы
Автор: Романенко Роман Александрович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 10, 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме соотношения языка и познания, поиску его гносеологического статуса. Проведен обзор научных и философских исследований в области языка и мышления. Данные последних лет свидетельствуют, что язык и речь воздействуют на разнообразные когнитивные процессы. В связи с этим определяется роль языка в восприятии действительности, его степень активности и влияния на познавательные функции.
Язык, когнитивные способности, картина мира, познание
Короткий адрес: https://sciup.org/14934889
IDR: 14934889 | УДК: 165.3
Текст научной статьи Проблема вариативности влияния языковых способностей на когнитивные процессы
Несколько последних десятилетий идея о том, что языковые особенности способны влиять на познавательные функции, вызывала у ученых то энтузиазм, то разочарование, то опять осторожный оптимизм. Причина переменчивого отношения в следующем: сама по себе интересная идея основывалась на слабой доказательной базе. Но к сегодняшнему дню накопился большой фактический материал, свидетельствующий о формировании мышления под влиянием языка [2]. Если в классических теориях познания господствовал принцип единства его и языка, в духе идеи общности формы и содержания, то теперь, используя терминологию Аристотеля, язык предстает не только и не столько формальной основой (causa formalis), сколько активно изменяющей, производящей, движущей причиной (causa efficiens).
Проблема активности языка проистекает из более глубокой фундаментальной проблемы активности познающего субъекта. Эта проблема древняя как философия Платона нашла свое выражение в энактивизме, современном философском направлении. Одна из принципиальных идей энактивизма заключается в том, что познание зависит от строения тела и его конкретных функциональных способностей. Безусловно, язык можно причислить к таким способностям.
В данной статье предпринята попытка осмыслить современные научные достижения в когнитологии и соотнести их с некоторыми философскими представлениями о языке, в частности с лингво-философскими взглядами Витгенштейна, а также определить эпистемологический статус языка в процессе познания. Еще одной задачей является типологизация когнитивных способностей познающего субъекта, где в качестве критерия принимается степень активности языка.
Существует философская позиция, сторонники которой отрицают значимость языка в теории познания. Попытку искоренить проблему языка из эпистемологии недавно предпринял отечественный мыслитель А.Ю. Антоновский. По его мнению, рассматривать знание следует без всякой атрибуции, к которой относится и язык. От языка, как от фундамента познания следует отказаться. В качестве альтернативного предмета исследования и в качестве единственно возможного базиса для эпистемологического анализа философ предлагает коммуникацию [3, с. 114].
Антоновский ставит проблему первичности одного относительно другого, а именно первичности коммуникации перед языком, и приводит аргументы, почему коммуникацию следует считать первичной формой познания. Даже если согласиться с выдвигаемыми аргументами (см. ниже), значит ли это что нужно соглашаться и с самой постановкой проблемы приоритета? И даже если согласиться с постановкой проблемы, логичен ли вывод, который снимает без какого-либо позитивного решения проблему отношения языка и познания?
Предполагаемый приоритет коммуникации не является достаточным основанием для утверждения, что язык нейтрален относительно познания, и что понимание различных его аспектов не будет способствовать пониманию отдельных аспектов познания. Доказательство же активной роли языка в процессе познания является доказательством ценности и необходимости его, как предмета исследования в теории познания.
Научные достижения и их философское осмысление может дать рациональное продолжение проблеме языка в познании, когда только одного умозрительного философского взгляда оказывается недостаточным. Действительно, язык является сложной психической функцией человека, и проблемы соотношения языка и мышления, роли языка в процессе познания представляются многогранными, не сводимыми к одному простому решения, к единственному объяснительному принципу или какой-нибудь философской идеи.
Одна из научных стратегий исследований языка, которая может дать фундаментальное представление о языке, имеющее эпистемологическую значимость, заключается в поиске зависимости когнитивных способностей в частности творчества (креативности), памяти, математических способностей, от способностей языковых.
Современная психология предоставляет множество данных, из которого можно черпать аргументы в пользу идеи о фундаментальности языка.
Так если протестировать детей одинакового социального уровня, владеющих одним языком, ивритом, и детей-билингвов (двуязычных, владеющих русским и ивритом), то сравнительный анализ результатов обнаруживает различия когнитивных способностей первых от способностей вторых. Креативность и математические данные последних имеют более высокий показатель, который становится все более выраженным с увеличением возраста детей [4, с. 10].
Исследование арифметических способностей с участием китайских и американских детей показало зависимость этих способностей от языка. Китайские дети превзошли американских в решении элементарных арифметических задач. Помимо социальных факторов, повлиявших на результат исследования, ученый Дэвид Гири выделил фактор лингвистический. Дело в том, что в восточно-азиатских языках (китайском и корейском) структура слов для чисел иная, чем в английском языке. Например, китайские слова для числительных «11», «12», «13» переводятся как «ten-one», «ten-two», «ten-three», соответственно. Структура же слов влияет на стратегию, которая применяется в счете в десятичной системе. И именно стратегия китайских детей оказалась более эффективной [5, с. 2023–2024].
Известно, что в языке племя индейцев пираха нет числительных. Индейцы не пользуются счетом и, как оказалось, не поддаются обучению счету [6]. Как показали исследования Гири и других ученых: K.C. Fuson, Y. Kwon, I.T. Miura, Y. Okamoto – не только отсутствие в языке числительных, но и структура их слов коренным образом влияют на арифметические способности.
Если в работе Марка Лейкина язык является коррелятом различных человеческих способностей и не установлено прямо или косвенно, опосредованно, билингвизм влияет на креативность детей, то в работе Дэвида Гири язык предстает определяющим фактором арифметической компетенции.
Эти два из многочисленных подобных кросс-культурных исследований, по мнению М.А. Кронгауза, являются преобразовавшейся так и недоказанной гипотезой лингвистической относительности (гипотезой Сепир-Уорфа) [7]. В них язык соотносится с другими категориями теории познания, осуществляется попытка установить связь языка и мышления и подчеркивается активная роль языка.
Касад и Бругман, проанализировав языки кора и мистек, показали их отличие в отношении способа концептуализации положения в пространстве. Это позволило стороннику релятивизма Дж. Лакоффу сделать вывод о существовании альтернативных концептуальных систем, обусловленных спецификой языка [8, с. 437].
Таким образом, идея об активной роли языка в процессе познания поддерживается рядом научных фактов.
В контексте аналитической философии, исследуя сущность языка, Л. Витгенштейн предвосхитил проблемы, рассмотренные выше. Мыслитель полагал, что решение арифметических задач является такой же языковой игрой, как, например, чтение, отгадывание загадок, перевод с одного языка на другой [9]. Однако, если в экспериментах Лейкина и Гири язык и математические способности изначально рассматриваются как две независимые целостности и только в результате исследования устанавливается между ними связь, то в анализе Витгенштейна дается общее понятие для того и другого – «языковая игра» – чтобы «выразить то обстоятельство, что говорить на языке означает действовать», и только потом дифференцируются философом, оставаясь тем не менее взаимосвязанными: «Вместо того чтобы выделить нечто общее для того, что мы называем языком, я говорю, что у этих явлений [языковых игр] нет ничего общего, способного побудить нас употреблять для них одно и то же слово. Однако они связаны друг с другом различными способами» [10, с. 58]. Таким образом, каждую отдельно взятую «языковую игру», согласно Витгенштейну, следует рассматривать как целостность, функционирующую по собственным принци- пам. Но австрийский философ не акцентируется на способах связи различных языковых игр. Понимание же этих связей прояснило бы вопрос о соотношении понятия «язык» к понятиям «языковые игры», или как их можно еще назвать «когнитивные способности».
Ответ относительно связей языковых игр мы находим в современных исследованиях психологов. Так близнецовый метод позволяет определить, во-первых, что на способности чтения и математические способности (двух «языковых игр» применяя терминологию Витгенштейна) большее влияние оказывает генетический фактор, нежели средовой, а во-вторых, наборы ген, определяющих эти способности схожи. Р. Пломин и Ю. Ковас проводили исследования на близнецах с нарушенными функциями чтения и счета, однако, как отмечают авторы, ранее проведенные исследования на здоровых людях показали по существу такие же результаты [11, с. 914–915]. Таким образом, можно сделать вывод о генетической взаимосвязи языковых и познавательных функциях. Но в биологическом аспекте поиск связей языка и мышления на разных уровнях (клеточном, органическом) становится более проблематичным, данные противоречивы и у некоторых ученых создается впечатление, «что каждая из ветвей общего дерева научного знания о мозге и языке обладает своей собственной правдой» [12, с. 487]. Однако некоторые результаты естественнонаучных исследований и философского анализа (как показано выше) иногда так хорошо соотносятся и дополняют друг друга, что это внушает оптимизм и веру в продуктивное сотрудничество науки и философии именно в области языка. Так, например, витгенштейновская парадигма дает теоретическое основание для широкого спектра возможных исследований, таких как соотнесение разнообразных языковых игр и определение влияния генетических и средовых факторов для каждой из них.
Противники идеи, определяющей языку значительную роль в процессе познания, выводят свои контраргументы из экспериментов над младенцами, обезьянами и инвалидами (немыми, объясняющимися жестами). Одним из таких современных противников является психолингвист Стивен Пинкер, который в своем бестселлере «Язык как инстинкт» доказывает, что мы думаем не словами, а мысленными образами [13, с. 67]. Антоновский также не избежал ссылок на животных и на новорожденных. Именно они, пишет философ, не владея языком, способны различать субъект и объект, а значит, способны познавать [14]. Ответ на это положение против языка как фундамента познания подсказывает сам автор – в этой же статье, критикуя попытку Куайна натурализовать эпистемологию, он четко разграничивает научное и донаучное познание. В своем же положении, ссылаясь на младенцев, Антоновский рассуждает о познании вообще, а не о донаучном познании, о котором говорить в данном случае было бы корректнее. Однако следует учитывать, что есть такие формы познания, где языковые функции не задействованы.
По степени влияния языка на мышление субъекта можно выделить следующие типы познавательных способностей:
-
– когнитивные способности, которые зависят от структуры языка, уровня владения языком, владения несколькими языками (назовем их «вербальные» способности);
-
– способности, в которых язык либо не участвует совсем, либо выступает только в качестве формальной основы («невербальные» способности»);
-
– когнитивные способности, коррелирующие с языковыми, что не исключает активной роли языка («условно-вербальные» способности).
Вероятно, в известных нам типах познания – мифологическом, религиозном, научном – будет встречаться комбинация различных типов способностей субъекта и «концентрация» вербальных способностей, например, в религиозном и научном познании окажется неодинаковой. Это требует дополнительного исследования.
Вопреки мыслителям, вообще отрицающим активную роль языка в процессе познания, сформулируем принципы системного подхода, благодаря которому возможно установить отношение языка к познанию. Этот подход заключается в необходимости учета трех подходов к исследованию: кросс-культурные исследования языковых и когнитивных способностей; решения проблемы отношения языка и реальности в рамках аналитической философии; исследования, направленные на поиск биологических оснований языка и мышления.
Кроме этого, важно понимать причины радикального неприятия языка в теории познания и противопоставлять симметричную критику такой оппозиции.
Вывод. Картина мира зависит от различных когнитивных способностей познающего субъекта, таких как память, язык, восприятие, чувство числа (number sense), креативность и т.п. Среди прочих особую роль в познании играют языковые способности, поскольку с разной степенью активности они влияют на ряд иных интеллектуальных способностей, участвующих в формировании этой картины мира. Таким образом, вопрос о роли языка в построении концептуальной картины мира смещается с области исследования структуры языка и смысла языковых выражений (с области аналитической философии) в область взаимосвязи языковых с другими психологически- ми процессами. Под языковыми способностями следует понимать как уровень владения языка субъектом, так и возможности одного языка относительно другого. Например, взрослый индеец из племени пираха может владеть языком своего племени лучше, чем русский пятиклассник владеет родным, однако ограниченные относительно русского языка возможности языка пираха уменьшают вероятность познания индейца окружающего мира, поэтому пятиклассник потенциально имеет интеллектуальное преимущество. В этом контексте сентенция Витгенштейна «Границы моего языка определяют границы моего мира» может быть уточнена так: «Границы моих языковых способностей определяют границы моего познания мира».
Ссылки и примечания: