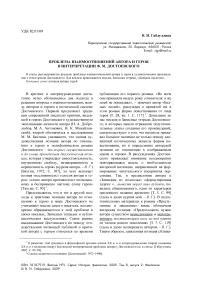Проблема взаимоотношений автора и героя в интерпретации Ф. М. Достоевского
Автор: Габдуллина Валентина Ивановна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.8, 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается решение проблемы взаимоотношений автора и героя в художественном произведении с точки зрения Достоевского. Для анализа привлекаются письма, Записные тетради, «Дневник писателя».
Позиция автора, герой
Короткий адрес: https://sciup.org/14737047
IDR: 14737047 | УДК: 82.01/09
Текст научной статьи Проблема взаимоотношений автора и героя в интерпретации Ф. М. Достоевского
В критике и литературоведении достаточно четко обозначились два подхода в решении вопроса о взаимоотношениях между автором и героем в поэтической системе Достоевского. Первый продолжает традиции современной писателю критики, видевшей в героях Достоевского художественную экспликацию личности автора (Н. А. Добролюбов, М. А. Антонович, Н. К. Михайловский), второй обозначился в исследовании М. М. Бахтина, указавшего, что «новая художественная позиция автора по отношению к герою в полифоническом романе Достоевского – это всерьез осуществленная и до конца проведенная диалогическая позиция , которая утверждает самостоятельность, внутреннюю свободу, незавершенность и нерешенность героя» (курсив автора. – В. Г. ) [Бахтин, 1972. С. 107], из чего вытекает полная «неслиянность» голосов автора и героя: «слово автора противостоит полноценному и беспримесно чистому слову героя» [Там же. С. 95] 1.
Представляется, что и тот и другой подходы к трактовке позиции автора по отношению к герою в мире Достоевского не учитывают мысли самого писателя, неоднократно обращающегося к этой проблеме в своих письмах, Записных тетрадях и публицистических выступлениях. Самое раннее высказывание Достоевского по поводу отождествления читающей публикой и критикой автора с героем относится ко времени публикации его первого романа. «Во всем они привыкли видеть рожу сочинителя: я же моей не показывал», – замечает автор «Бедных людей», рассуждая о принятой им в этом романе форме повествования от лица героя [Т. 28, кн. 1. С. 117] 2. Дошедшие до нас письма и Записные тетради Достоевского, в которых нашли отражение подготовительные этапы создания его произведений, свидетельствуют о том, что писатель придавал большое значение не только поиску адекватной поэтическому замыслу формы повествования, но и определению авторской позиции по отношению к изображаемым идеям и героям. В рассуждениях Достоевского привлекает внимание неоднократно повторяющаяся мысль о необходимости авторской интенции, направленной на формирование читательского восприятия персонажа. Так, в предисловии автора к «Запискам из подполья» сформулирована задача: «…вывести перед лицо публики, повиднее обыкновенного, один из характеров протекшего недавно времени» [Т. 5. С. 99] (здесь и далее курсив мой. – В. Г.). В подготовительных материалах к роману «Преступление и наказание» вновь обозначена авторская позиция: «Предположить нужно автора существом всеведующим и непогрешимым, выставляющим всем на вид одного из членов нового поколения» [Т. 7. С. 119] (здесь и далее подчеркнуто автором. – В. Г.). Таким образом, заявленная позиция сближа- ет автора (в рамках художественного произведения) с Творцом, с присущими только ему всеведением и непогрешимостью и поэтому имеющим право выставлять всем на вид, т. е. наставлять и поучать.
По мысли Ф. М. Достоевского, изображая характер героя, автор должен дать ему нравственную оценку. Эта мысль получила воплощение в размышлениях автора по поводу романа И. С. Тургенева «Дым» в подготовительных материалах к «Дневнику писателя». Достоевский не принимает пессимизма тургеневского Потугина в его взгляде на Россию, видя в нем выражение точки зрения автора – самого Тургенева. В черновиках находим заметку, не вошедшую в февральский выпуск «Дневника писателя»: «…г-н Ив. Тургенев, сколько мне известно, один из самых [ярых] односторонних западников по убеждениям своим и представил нам позднее дрянной и глупенький тип – По-тугина, с любовью нарисованный [и представляющий] олицетворяющий собою идеал сороковых годов ненавистника России и народа Русского, со всею ограниченностью сороковых годов, разумеется» [Т. 22. С. 190]. По мнению Достоевского, автор не дал надлежащей оценки взглядам своего героя, нарисовав его «с любовью»: «Вот какой-то господин едет в вагоне и осуждает всех и решает, что все это дым. Мне досадно, что ему дано это право. Он хуже всех и не имеет тут слов. Даже если б себя осуждал, но себя осуждать он не думает. Автор должен был поставить в надлежащем свете , автор этого не сделал » [Т. 24. С. 90]. По Достоевскому, позиция автора обязательно должна быть проявлена в художественном произведении «твердо, ясно и понятно» [Там же. С. 308]. Сам Достоевский, изображая героя-идеолога, зараженного трихинами анархизма и крайнего индивидуализма, всегда стремился к опровержению его взглядов не только героями-оппонентами, близкими по своей нравственной позиции автору, но и всей логикой изображения, сталкивая идею героя с живой жизнью , Божией правдой и земным законом [Т. 28, кн. 2. С. 136].
В случае с оценкой романа Тургенева «Дым» Достоевский «угадал» симпатии автора к своему герою. Рассматривая взгляды Потугина, Достоевский постоянно переходит к оценке позиции автора, уловив связь между ними, которую признавал и сам Тургенев, что следует из известного письма к
Д. Писареву из Баден-Бадена, в котором писатель объясняет свое отношение к Поту-гину: «Быть может, мне самому это лицо дорого; но я радуюсь, что оно появилось, что его ругают в самое время этого всеобщего опьянения, которому предаются, именно теперь, у нас. Я радуюсь, что мне именно теперь удалось выставить слово “цивилизация” – и пусть в него швыряют грязью со всех сторон» [Тургенев, 1963. С. 261.]. Судя по черновым записям, Достоевский обнаружил связь Тургенева с его героем и именно в том пункте, на который указывал сам автор. В наброске неосуществленной статьи Достоевского о романе «Дым» читаем: «Статья
1) Потугин, Тургенев (красота).
Цивилизация » [Т. 24. С. 74].
Достоевский напрямую отождествляет Потугина с его создателем, о чем свидетельствует запись: «Потугин – это сам г-н Тургенев» [Там же].
О важности для Достоевского решения вопроса о возможности использования героя в качестве проводника идейно-философской и общественной позиции автора свидетельствуют и его размышления по этому поводу в связи с оценкой романа Л. Толстого «Анна Каренина» на страницах «Дневника писателя». Давая разбор вышедших глав романа, Достоевский отметил приметы «нового созидания» в решении Толстым проблемы личной ответственности человека, подчеркивая, что в образе Левина нарисован тип нового человека, предвестника «общества новой правды». Особую важность для Достоевского имеет то, что «у писателя – художника в высшей степени, беллетриста по преимуществу» им обнаружены «страницы настоящей “злобы дня”, со всем характернейшим оттенком настоящей минуты», созвучные его собственным размышлениям. «Я именно провозглашаю, что есть, рядом с страшным развратом, что я вижу и предчувствую этих грядущих людей, которым принадлежит будущность России, что их нельзя уже не видеть и что художник, сопоставивший этого отжившего циника Стиву с своим новым человеком Левиным, как бы сопоставил это отпетое, развратное, страшно многочисленное, но уже покончившее с собой собственным приговором общество русское, с обществом новой правды, которое не может вынести в сердце своем убеждения, что оно виновато, и отдаст всё, чтоб очистить сердце свое от вины своей» [Т. 25. С. 57].
Отношение Достоевского к герою Толстого меняется после выхода изданной отдельно «несчастной восьмой части романа» [Там же. С. 202], так как, по его мнению, писатель отступил в ней от провозглашенного в предыдущих частях романа идеала Милосердия. Теперь Левин, для Достоевского, становится прямым выразителем позиции автора, с которой он принципиально расходится.
К пониманию концепции автора Достоевский идет через постижение жизненной философии главного героя романа – Левина, которого он считает носителем идей его создателя. «Идеи Левина разделяет, видимо, сам автор, сам граф Лев Толстой», – отмечает Достоевский в подготовительных материалах [Там же. С. 240]. Принцип своего подхода к анализу образа главного героя, а через него к постижению «взгляда на современную русскую действительность» Льва Толстого Достоевский сформулировал в следующем рассуждении: «Левин, как факт, есть, конечно, не действительно существующее лицо, а лишь вымысел романиста. Тем не менее этот романист – огромный талант, значительный ум и весьма уважаемый интеллигентною Россиею человек, – этот романист изображает в этом идеальном, то есть придуманном, лице частью и собственный взгляд свой на современную нашу русскую действительность, что ясно каждому, прочитавшему его произведение. Таким образом, судя об несуществующем Левине, мы будем судить и о действительном уже взгляде одного из самых значительных современных русских людей на текущую русскую действительность» [Там же. С. 193].
В приведенном рассуждении Достоевский определяет исходную точку во взгляде на главного героя романа: Левин важен для Достоевского не как герой литературного произведения с присущим ему характером, и даже не столько как персонаж, воплотивший в себе черты и взгляды людей определенного типа, Достоевский воспринимает Левина, прежде всего, как носителя авторской идеи. При анализе романа Достоевский избирает эпизоды, в которых ярче всего отразились злоба дня и взгляд на нее автора. Обнаружив противоречие в позиции Левина (Толстого) в его отношении к Восточному вопросу, Достоевский вступает с ним в полемику, применяя распространенный полемический прием – «биение противника его же оружием», который заключается в предельном обнажении противоречий во взглядах оппонента. Достоевский не согласен с толстовской оценкой понимания простым народом характера войны на Балканах. Как замечает А. И. Батюто, разбор Достоевским «Анны Карениной» направлен на дискредитацию «в лице Левина человека, позволившего себе усомниться в сознательном отношении темной народной массы к Восточному вопросу…» [Батюто, 1983. С. 136]. Желая показать антигуманную сущность левинского «обособления», Достоевский заявляет, что нежелание Левина участвовать в «мщении и убийстве» на деле означает молчаливое согласие на чинимые турками зверства. Этот вывод закономерно вытекает из сцены, нарисованной Достоевским в «Дневнике писателя», в которой со всей очевидностью показана абсурдность «непротивленческой» позиции Левина. Сцена «сочиненная» Достоевским для испытания позиции толстовского героя, заставляет усомниться в человеколюбии Левина, так как в ситуации выбора – убить ли турка, выкалывающего глазки ребенку – по логике рассуждений Левина, он должен заявить: «Нет, нельзя убить турку. Нет, уж пусть он выкалывает глазки ребенку и замучает его, а я уйду к Кити» [Т. 25. С. 220]. Как утверждает Достоевский, такой поступок «прямо выходит из его убеждений и из всего того, что он говорит». Таким образом, в процессе полемики Достоевский укрупняет негативную сторону позиции оппонента, в результате чего толстовский образ заметно искажается. Выходя в своей интерпретации за рамки изображенного Толстым характера, Достоевский дает оценку позиции автора «Анны Карениной» в Восточном вопросе, какой она ему представляется, на основании анализа высказываний Левина, подчеркивая всю их парадоксальность. Автор «Дневника» выступает против непозволительного для писателя «обособления» от проблем, представляющих в данную минуту национальный интерес. «Но он в обособлении. Он видит, во-первых, выделанность, во-вторых, тупость народа, в-третьих, пошлость добровольцев (смотри и проч.), в-четвертых, ужасно сердится. Отчего произошло это обособление, не знаю. Но оно печально», – пишет Достоевский об авторе «Анны Карениной» [Т. 25. С. 241].
Уделяя столь большое место анализу позиции Толстого-художника, Достоевский объясняет причины своего внимания к этому вопросу: «Теперь, когда я выразил мои чувства, может быть, поймут, как подействовало на меня отпадение такого автора, отъединение его от русского всеобщего и великого дела и парадоксальная неправда, возведенная им на народ…» [Там же. С. 202], В черновике эта мысль получила продолжение: «Конечно, всё это выражено лишь в лицах героев романа, но с тем вместе видно, что и автор теряет свою художественную объективность и что он сам заодно с своими героями, поддакивает им и направляет их» [Там же. С. 250]. Достоевский завершает июльско-августовский номер «Дневника писателя» риторическим вопросом: «Такие люди, как автор “Анны Карениной” – суть учители общества, наши учители, а мы лишь ученики их. Чему ж они нас учат?» [Там же. С. 223].
Таким образом, в представлении Достоевского, герой Толстого является выразителем взглядов автора: «…этот романист изображает в этом идеальном, то есть придуманном, лице весь свой взгляд на современную нашу действительность…» [Там же. С. 246]. Эта мысль из Записной тетради Достоевского представляет интерес с точки зрения сформулированного в ней принципа оценки взглядов писателя посредством анализа высказываний его героя. Признавая, что герой художественного произведения – это придуманное автором лицо, Достоевский допускает возможность ставить знак равенства между автором и героем в том, как они смотрят «на современную нашу действительность». В данном случае, Достоевский интуитивно уловил тесную связь между Толстым и одним из наиболее близких автору героев, которого он наделил не только своими собственными мыслями и переживаниями и некоторыми чертами своей биографии, но даже в его фамилии подчеркнул свою «родственность» с героем (Левин от имени Лев, т. е. принадлежащий Льву).
Как уже отмечалось, для современной Достоевскому литературной критики характерен был подобный подход к оценке авторской позиции, что приводило зачастую к вульгаризации трактовки личности автора. Достоевский более корректен в использовании указанного критического приема, чему, очевидно, способствует великолепная писательская интуиция и знание природы художественного творчества. Так, в «Дневнике» и в подготовительных материалах к нему писатель неоднократно уточняет: «…лицо самого Левина, так, как изобразил его автор, я все же с лицом самого автора отнюдь не смешиваю», высказывая в то же время «горькое недоумение», «что хотя очень многое из выраженного автором, в лице Левина, очевидно, касается собственно одного Левина, как художественно изображенного типа, но все же не того ожидал я от такого автора!» [Там же. С. 194].
Нельзя не заметить, что принцип оценки «чужого» героя и его связи с автором перекликается с тем, как Достоевский трактовал свою собственную роль как автора, например, при создании образа старца Зосимы и духа его поучений. По поводу готовящейся к печати книги пятой «Pro и contra» романа «Братья Карамазовы» Достоевский писал издателю как о «кульминационной точке романа», в которой «есть изображение крайнего богохульства и зерна идеи разрушения нашего времени в России, в среде оторвавшейся от действительности молодёжи, и рядом с богохульством и с анархизмом – опровержение их, которое и приготовляется мною теперь в последних словах умирающего старца, одного из лиц романа» [Т. 30, кн. 1. С. 63]. Содержание цитируемого письма к Н. А. Любимову интересно и с точки зрения сформулированного в нём авторского отношения к убеждениям Ивана Карамазова, опровержению которых, по замыслу автора, посвящается следующая книга романа. «Эти убеждения, – пишет Достоевский, – есть именно то, что я признаю синтезом современного русского анархизма. Отрицание не бога, а смысла его создания» [Там же].
Это письмо как нельзя лучше может служить ответом современным исследователям, которые пытаются трактовать позицию Ивана Карамазова как alter ego автора, как это делает, например В. Шмид, говоря о раздвоении автора романа «Братья Карамазовы» на две ипостаси: «Достоевский I – это автор, проповедующий настоящую веру и преследующий по всему роману Ивана Карамазова. Достоевский II – это сомневаю- щийся автор, рупором которого является тот же самый Иван Карамазов» [Шмид, 1998. С. 174]. Убедительность доводов рассудка, которые приводит герой, обосновывая своё понимание абсурдности мира, ввели в заблуждение некоторых читателей и критиков Достоевского. Между тем автор сознательно делает логику своего героя неотразимой: «Мой герой берет тему, по-моему, неотразимую: бессмыслицу страдания детей и выводит из неё абсурд всей исторической действительности» [Т. 30, кн. 1. С. 63]. Тем важнее видится писателю его задача как автора: «Богохульство же моего героя будет торжественно опровергнуто в следующей (июньской) книге, для которой я и работаю теперь со страхом, трепетом и благоговением, считая задачу мою (разбитие анархизма) гражданским подвигом» [Там же. С. 64].
В другом письме к издателю романа Достоевский указывает на старца Зосиму как на близкого себе по мыслям героя: «Само собою, что многие из поучений моего старца Зосимы (или лучше сказать способ их выражения) принадлежат лицу его, то есть художественному изображению его. Я же хоть и вполне тех же мыслей, какие и он выражает, но если б лично от себя выражал их, то выразил бы их в другой форме и другим языком. Он же не мог ни другим языком, ни в другом духе выразиться, как в том, который я придал ему. Иначе не создалось бы художественного лица» [Там же. С. 102]. В подготовительных материалах к роману, формулируя основные пункты «исповеди старца», Достоевский подчеркивает авторскую установку: «СЛОВАМИ СТАРЦА» [Т. 15. С. 243]. Как видим, автор не отождествляет себя с художественным лицом, хотя, как сам отмечает, тех же мыслей. Воля автора проявляется в объективированной оценке, которую он дает своему созданию, дистанцируясь от него: «Взял я лицо и фигуру из древле-русских иноков и святителей: при глубоком смирении надежды беспредельные, наивные о будущем России, о нравственном и даже политическом ее предназначении. Св. Сергий, Петр и Алек- сей митрополиты разве не имели всегда, в этом смысле, Россию в виду?» [Т. 30, кн. I. С. 102], одновременно указывая на источник своих собственных идей во взгляде на будущее России.
Таким образом, вопрос о возможности выражения позиции автора через героя решается Достоевским положительно, в то же время писатель подчеркивает, что читатели и критика не должны смешивать автора с художественным лицом, им нарисованным. Писатель вместе с тем не снимает ответственности с автора за то, какие идеи он проводит, наделяя ими героев. Представляется необходимым при оценке авторской позиции и форм ее воплощения в романах Ф. М. Достоевского учитывать трактовку проблемы взаимоотношений автора и героя, получившую разработку в эпистолярном, художественном и публицистическом наследии писателя. Отмеченная проблема, попытка интерпретации которой сделана в этой статье, безусловно, требует дальнейшего изучения.