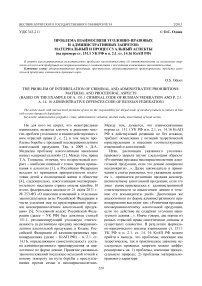Проблема взаимосвязи уголовно-правовых и административных запретов: материальный и процессуальный аспекты (на примере ст. 151.1 УК РФ и п. 2.1. ст. 14.16 КОАП РФ)
Автор: Одоев Олег Сергеевич
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Трибуна молодых ученых
Статья в выпуске: 2, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются межотраслевые проблемы законодательства об ответственности за незаконную торговлю алкогольной продукцией несовершеннолетним в соответствии с последними изменениями законодательства.
Административная преюдиция, преступление, административное правонарушение, продажа алкогольной продукции, взаимосвязь правовых норм
Короткий адрес: https://sciup.org/148181779
IDR: 148181779 | УДК: 343.211
Текст научной статьи Проблема взаимосвязи уголовно-правовых и административных запретов: материальный и процессуальный аспекты (на примере ст. 151.1 УК РФ и п. 2.1. ст. 14.16 КОАП РФ)
Ни для кого не секрет, что межотраслевая взаимосвязь является ключом к решению многих проблем уголовного и взаимодействующих с ним отраслей права [1, с. 2], в том числе проблемы борьбы с продажей несовершеннолетним алкогольной продукции. Так, в 2009 г. Д.А. Медведев проблему алкоголизации населения назвал «сверхактуальной» [2]. Между тем, права Т.А. Голикова, отмечая, что подростковый возраст – наиболее опасный с точки зрения привыкания к алкоголю [3], а Российская Федерация исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе [4], следовательно, алкоголизация несовершеннолетнего населения страны опасна вдвойне. В итоге, федеральным законом от 21 июля 2011 г. № 253-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усиления мер по предотвращению продажи несовершеннолетним алкогольной продукции» [5], Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) был дополнен статьей 151.1, регламентирующей уголовную ответственность за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, а Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) – п. 2.1. ст. 14.16, определяющим самостоятельность состава административного правонарушения за аналогичное по форме деяние. Принятие указанных законоположений послужило исходной точкой к новому повороту на пути борьбы с преступлениями против семьи и несовершеннолетних.
Между тем, думается, что взаимосвязанные нормы ст. 151.1 УК РФ и п. 2.1. ст. 14.16 КоАП РФ в действующей редакции не без изъянов, требуют осмысления с позиций теоретической юриспруденции и внесения соответствующих изменений и дополнений.
Итак, диспозиция указанного уголовноправового запрета звучит следующим образом: «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно…». Далее законодатель в примечании к статье разъяснил, что указанным деянием «…признается розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это лицо ранее привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние в течение ста восьмидесяти дней». Диспозиция же аналогичного по форме административного правонарушения выглядит так: «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния…». Иначе говоря, две нормы из разных отраслей права синтетически связаны и существуют совместно. В результате формально-юридического анализа взаимосвязи ст. 151.1 УК РФ и п. 2.1. ст. 14. 16 КоАП РФ можно прийти к выводу, что проблемы, имеющие как теоретическое, так и практическое значение исследуемых правовых запретов можно дифференцировать на: 1) проблемы, имеющие процессуальную природу; 2) проблемы материальноправового характера.
-
1. Рассматривая процессуальные проблемы, необходимо отметить, что эксплицитно выраженная в ст. 151.1 УК РФ административная преюдиция (в терминологии И.Я. Фойницкого – « административная предсудимость» [6, с. 49]), сконструирована не вполне удачно. В правовой науке под преюдицией (от лат . praejudicio – предрешение) понимается обязанность органов предварительного расследования и суда, в чьем производстве находится дело, принять как установленные обстоятельства, если они признаны вступившим в законную силу решением по другому делу [7, с. 224]. Наряду с этим в науке принято дифференцировать преюдиции на виды. Так, выделяют общеправовые, межотраслевые и отраслевые преюдиции [8, с. 69–82]; юридические и логические преюдиции [9, с. 2]; преюдиции факта и преюдиции правоотношения [10, с. 163.]; обязательные и необязательные [11, с. 146] и т.д. В контексте предмета нашего исследования наибольший интерес представляет позиция О.В. Левченко, которая дифференцирует преюдиции на: 1) преюдицию вступившего в законную силу приговора суда; 2) преюдицию неотмененного постановления суда, прокурора, следователя; 3) преюдицию административного акта [12, с. 169]. Не вдаваясь в дискуссию о целесообразности придания административным актам преюдициального значения, можно сделать вывод о том, что преюдициальность находится в прямой зависимости от вынесшего акт субъекта административных либо уголовных правоотношений. Необходимо отметить, что в соответствии с п. 1 и п. 2 ст. 23.3, ст. 23.49, ст. 23.50, п. 2 ст. 23.1 КоАП РФ рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных п. 2.1. ст. 14.16. КоАП РФ уполномочены как руководители (заместители руководителей) органов исполнительной власти, так и судьи, в случаях, если орган или должностное лицо, к которым поступило дело о таком административном правонарушении, передает его на рассмотрение судье. С учетом изложенного можно сделать вывод, что административная преюдиция в уголовном праве представляет собой предусмотренную законом обязанность субъектов уголовного процесса считать установленными обстоятельства, признанные таковыми решением должностных лиц органов исполнительной власти, уполномоченных на разрешение административных правонарушений КоАП РФ либо вступившим в законную силу решением суда, осуществляющим правосудие посредством административного судопроизводства.
-
2. Как указывалось выше, помимо только процессуальных проблем взаимосвязанные нормы административного и уголовного права, нацеленные на борьбу с продажей алкогольной продукции несовершеннолетним, имеют и проблемы материально-правового порядка. Так, законодатель предпочел умолчать о форме вины, с которой совершается как преступление, подпадающее под действие нормы ст. 151.1 УК РФ, так и аналогичное административное правонарушение, оставив решение вопроса на откуп правоприменительным органам. Поскольку основной (но не единственной) границей между указанными правонарушениями служат характер и степень общественной опасности деяния, а форма вины в виде умысла или неосторожности в полной мере присуща для совершения обоих видов нарушений режима законности. В дальнейшем целесообразным видится рассмотрение указанной проблемы на примере ст. 151.1 УК РФ. Необходимо отметить, что с затронутой проблемой представители доктрины уголовного права и органы правоприменения столкнулись относительно давно. Так, еще А.Н. Трайнин абсолютно верно указывал, что «умолчание о форме вины не снимает вопроса о вине, а лишь требует тщательного выяснения мысли законодателя для установления для данного состава формы вины» [14, с. 206]. В настоящее время данный вопрос в теории и практике сложились и широко распространены две противоположные точки зрения: 1) в самом общем виде суть первой позиции сводится к тому, что если в статье Особенной части УК РФ отсутствует указание на неосторожность как форму вины, то с субъективной стороны содеянное выражается исключительно в умысле [15, с. 230]. Как правило, сторонники указанной позиции в подтверждение
истинности своих суждений приводят положения ч. 2 ст. 24 УК РФ, в соответствии с которой деяние, совершенное только по неосторожности, признается преступлением лишь в случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ; 2) вторая правовая позиция состоит в том, что если в статье Особенной части УК РФ форма вины не конкретизирована, то преступление может быть выполнено как с умышленной, так и с неосторожной виной в зависимости от особенностей конкретного состава преступления. Парадоксальность двоякости подхода к решению рассматриваемого вопроса состоит в том, что сторонники второй правовой позиции также апеллируют к указанной выше ч. 2 ст. 24 УК РФ. Необходимо отметить, что частично второй подход поддержал и Верховный суд РФ. Так, в п.4 постановления пленума от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» разъяснено: «исходя из положений ч. 2 ст. 24 УК РФ, если в диспозиции статьи главы 26 УК РФ форма вины не конкретизирована, то соответствующее экологическое преступление может быть совершено умышленно или по неосторожности при условии, если об этом свидетельствуют содержание деяния, способы его совершения и иные признаки объективной стороны состава экологического преступления» [16]. Второй подход более обоснован и как соответствует духу закона, так и отвечает задачам уголовного закона, как они закреплены в ч. 1 ст. 2 УК РФ, поскольку охрана прав и свобод несовершеннолетних средствами борьбы с реализацией алкогольной продукцией является одним из приоритетных векторов развития государства. В данной связи видится не вполне верной позиция авторов комментариев к УК РФ под редакцией В.М. Лебедева, указывающих на то, что субъективная сторона содеянного по ст. 151.1 УК РФ характеризуется исключительно прямым умыслом [17]. Так, следуя логике авторов, в случаях, когда субъект преступления введен в заблуждение (со слов самого несовершеннолетнего) относительно возраста покупателя и, следовательно, не осознает общественной опасности своего деяния и желает продать алкогольную продукцию лицу, достигшему, как он считает, совершеннолетия, имеет место быть невиновное причинение вреда (ст. 28 УК РФ). По конструкции объективной стороны составы как рассматриваемого преступления, так и аналогичного административного правонарушения формальные, т.е. считаются 222
С процессуальной стороны сущность проблемы, содержащейся во взаимосвязи правовых норм, сводится к тому, что в силу установленных законом особенностей пересмотра постановлений по делам об административных правонарушениях создается реальная возможность причинения вреда интересам правосудия по уголовным делам. К примеру, в случаях, когда в отношении одного и того же лица в порядке надзора незаконное постановление по делу об административном правонарушении (п. 2.1. ст. 14.16 КоАП РФ) отменяется за отсутствием в деянии состава правонарушения уже после вступления в законную силу приговора суда по уголовному делу (ст. 151.1 УК РФ).
Так, признанное в установленном законом порядке наличие состава административного правонарушения является одним из обязательных условий привлечения к уголовной ответственности по ст. 151.1 УК РФ, при этом должен быть соблюден установленный законом временной промежуток, в течение которого неоднократность, как обязательный признак деяния, сохраняет свое правовое значение. Следовательно, при отсутствии признака неоднократности совершения административного проступка отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ. С учетом изложенного нами предполагается, что неоднократность совершения административного правонарушения в составах с административной преюдицией представляет собой обязательный признак объективной стороны состава преступления. Отсюда следует, что признание в установленном законом порядке в деянии отсутствия состава административного правонарушения в данном случае автоматически влечет за собой прекращение производства по уголовному делу, а вступивший в силу приговор в кассационном порядке (с 1 января 2013 г.) подлежит отмене за отсутствием в деянии состава преступления. В указанных условиях создается новый вид кассационного производства, не имеющий своим предназначением устранение нарушений закона, поскольку приговор подлежит отмене даже в случаях, когда он отвечает критериям законности, обоснованности и справедливости. Необходимо отметить, что потенциальная возможность отмены незаконного постановления по делу об административном правонарушении фактически не ограничена во времени, следовательно «дамоклов меч» висит над каждым судебным приговором, вынесенным по уголовному делу о преступлении, предусмотренном ст. 151.1 УК РФ. Нами сознательно исключается абстрактная возмож- ность отмены приговора по уголовному делу в порядке надзора, поскольку надзорное производство имеет своей целью, как указал Конституционный Суд РФ, устранение судебных ошибок, не являющихся новыми или вновь открывшимися обстоятельствами (курсив мой. – О.С.) [13]. Очевидно, что указанная зависимость решения суда кассационной инстанции по уголовному делу от решения суда надзорной инстанции по делу об административном правонарушении противоречит принципу самостоятельности суда. Ключ к решению подобных вопросов видится в законодательном разграничении видов судопроизводства, во избежание возникновения процессуальных трудностей при отправлении правосудия посредством как административного, так и уголовного судопроизводства.
оконченными независимо от наступления общественно опасных последствий реализации алкогольной продукции. Не подвергая критике мнение исследователей о том, что по неосторожности могут быть совершены лишь преступления с материальным составом [18, с. 238.], предполагаем, что для рассматриваемого общественно опасного деяния в равной степени характерны (на альтернативных началах) как прямой умысел, так и неосторожность в форме небрежности. Указанный подход в полной мере применим и при квалификации аналогичного административного проступка.
Представляется, что содержание небрежности в данном случае характеризуется отсутствием осознания общественной опасности деяния при наличии обязанности и реальной возможности такого осознания. Указанную обязанность и потенциальную возможность осознания общественной опасности своего деяния субъекту предписывает п. 2 ст. 16 федерального закона от 22 ноября 1995 г. №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» [19] (в ред. от 28 июля 2012 г.), который с одной стороны запрещает продажу алкогольной продукции несовершеннолетним, с другой – в случае возникновения у продавца сомнения в достижении этим покупателем совершеннолетия, продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, позволяющий установить его возраст. В подтверждение изложенного тезиса можно привести то, что о возможности совершения по неосторожности преступлений с формальным составом указывал еще пленум Верховного суда СССР в постановлениях от 7 июля 1983 г. №4 «О практике применения судами законодательства об охране природы» [20, с. 845.] и от 5 апреля 1985 № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за выпуск из промышленных предприятий недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции и за выпуск в продажу таких товаров в торговых предприятиях» [21, с. 911]. Данными проблемами не исчерпывается перечень процессуальных и материально-правовых трудностей рассматриваемой тематики. Так, остается невыясненным вопрос о полномочии судьи освободить лицо от наказания по ст. 151.1 УК РФ в связи с изменением обстановки (80.1 УК РФ) по признаку утраты последним общественной опасности (при том, что к административной ответственности за аналогичное деяние оно уже привлечено и об- 223
щественная опасность, пусть даже в малой степени, как нам представляется, у него сохраняется) и т.д.
Следовательно, можно прийти к выводу, что на сегодняшний день назрела объективная необходимость в пересмотре позиций по вопросам взаимосвязи уголовно-правовых и административных норм в целях успешной борьбы с преступностью, в том числе с преступлениями и проступками, связанными с продажей несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции.