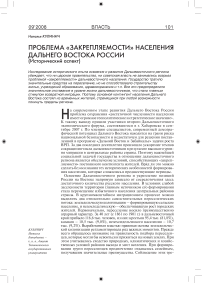Проблема "закрепляемости" населения Дальнего Востока России
Автор: Кулинич Наталья Геннадьевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: История
Статья в выпуске: 9, 2008 года.
Бесплатный доступ
Исследование исторического опыта освоения и развития Дальневосточного региона убеждает, что ни царское правительство, ни советская власть не занимались всерьез проблемой «закрепляемости» дальневосточного населения. Государство тратило значительные средства на переселение, но не способствовало строительству жилья, учреждений образования, здравоохранения и т.п. Все это предопределило значительное отставание в уровне жизни дальневосточников, что стало главным стимулом возвратной миграции. Поэтому основной контингент населения Дальнего Востока состоял из временных жителей, стремящихся при любой возможности покинуть пределы региона.
Короткий адрес: https://sciup.org/170164532
IDR: 170164532
Текст обзорной статьи Проблема "закрепляемости" населения Дальнего Востока России
ПРОБЛЕМА «ЗАКРЕПЛЯЕМОСТИ» НАСЕЛЕНИЯДАЛьНЕГО ВОСТОКА РОССИИ
(Исторический аспект)
Исследование исторического опыта освоения и развития Дальневосточного региона убеждает, что ни царское правительство, ни советская власть не занимались всерьез проблемой «закрепляемости» дальневосточного населения. Государство тратило значительные средства на переселение, но не способствовало строительству жилья, учреждений образования, здравоохранения и т.п. Все это предопределило значительное отставание в уровне жизни дальневосточников, что стало главным стимулом возвратной миграции. Поэтому основной контингент населения Дальнего Востока состоял из временных жителей, стремящихся при любой возможности покинуть пределы региона.
Н а современном этапе развития Дальнего Востока Р-оссии проблема сохранения «достаточной численности населения имеет огромное геополитическое и стратегическое значение». К такому выводу пришли участники второго Дальневосточного экономического форума, состоявшегося в г. Хабаровске в сентябре 2007 г. По мнению специалистов, современный демографический потенциал Дальнего Востока находится на грани риска национальной безопасности и недостаточен для решения поставленной в программе «Дальний Восток и Забайкалье» задачи роста ВР-П. За два последних десятилетия произошло ускорение темпов сокращения числа дальневосточников в результате высокого уровня миграции в центральные районы страны. Поэтому важнейшей социальной задачей государства в отношении дальневосточного региона является обеспечение условий, способствующих «закреп-ляемости» постоянного контингента жителей. Вряд ли это можно сделать без осознания тех исторических особенностей формирования населения, которые сложились в предшествующие периоды.
КУЛИНИч Наталья Геннадьевна – к. и. н.. доцент Тихоокеанского государственного университета
Освоение Дальневосточного региона и укрепление позиций Р-оссии на Востоке напрямую зависело от сосредоточения здесь достаточного количества русского населения. В условиях слабой заселенности территории главным источником его формирования стала перемещение избыточного населения центральных районов страны. В крупномасштабном миграционном процессе можно выделить два относительно самостоятельных переселенческих потока: земледельческую колонизацию – формировавшую сельское население, и неземледельческую – обеспечивавшую рост городских жителей. Первоначально, переселение носило преимущественно аграрный характер. За 40 лет (с 1861 по 1901 г.) в дальневосточный край прибыло 116,6 тыс. человек, из них: крестьян 95,4 тыс. (81,8%), казаков – 10,5 тыс. (9,0%), неземледельческого населения – 10,7 тыс. (9,2%). Выработанная властью правовая основа земледельческой колонизации регламентировала ряд важных моментов. Прежде всего обращалось внимание на правильность подбора переселенцев, которые могли бы освоиться и прижиться на новых землях. При этом учитывалось сходство природных, климатических и хозяйственных условий районов выхода и мест вселения. При формировании групп переселенцев предпочтение отдавалось семейным, получавшим значительные преимущества. Соблюдение этих тре- бований способствовало приживаемости новоселов на новом месте. В результате случаи так называемого «обратничества» (или возвратной миграции) среди крестьян в XIX в. не превышали 2%.
Иное положение складывалось в неземледельческой колонизации, игравшей главную роль в формировании городского населения. Массовое градостроительство в дальневосточном регионе началось во второй половине XIX в., когда были образованы такие города, как Николаевск-на-А-муре, Ч-ита, Б-лаговещенск, Хабаровск, Владивосток, Никольск-Уссурийский. За 50 лет численность горожан увеличилась почти в 4 раза, а их удельный вес в составе всего населения региона вырос с 1% до 12,7%. Е-ще более быстрыми темпами населения дальневосточных городов стало расти в начале XX в., чему способствовало расширение неземледельческой колонизации. С 1897 по 1917 г. в А-мурской, Приморской и Забайкальской областях городское население увеличилось в 3,8 раза, а сельское – лишь в 1,7 раза. К этому времени горожане составляли около 25% от всех дальневосточников.
Неземледельческая колонизация формировалась из ремесленников, рабочих-отходников, каторжан и ссыльных различных категорий, демобилизованных нижних чинов армии и флота и т.д. Этот поток в значительно меньшей степени поддавался регламентации и носил преимущественно стихийный характер. Е-го интенсивность определялась как процессами, происходившими в центральной Р-оссии, так и позитивными изменениями в дальневосточной экономике, испытывавшей все возраставшую потребность в дополнительной рабочей силе. Для ее удовлетворения в 1890-е гг. была введена новая форма неземледельческого переселения – массовое «контрактование» квалифицированных работников в Е-вропейской Р-оссии. Завозились строительные рабочие на строительство Уссурийской железной дороги, транспортные для эксплуатации подвижных составов. А-дминистрация Владивостокского порта нанимала мастеровых заводов Петербурга, Севастополя, Москвы, Одессы, Нижнего Тагила и т.д. Именно эта форма стала главным способом решения проблемы трудовых ресурсов для дальневосточной промышленности. Только за 1911–1913 гг. через
Иркутск на восточную окраину проследовало на заработки более 163,7 тыс. человек. «Закрепляемость» неземледельческих переселенцев была многократно ниже, чем крестьян. Значительное большинство было временными (только на срок контракта) жителями дальневосточных городов. Поэтому они старались отправить «семье заработанные средства и не заводить имущество по месту своего временного проживания»1.
Временными жителями дальневосточных городов становились и присылавшиеся сюда из центра царские чиновники, и расквартированные здесь многочисленные воинские контингенты.
Сменяемость и непостоянство жителей дальневосточных городов усиливало наличие в их составе значительной группы мигрантов из Китая, Кореи и Японии, с 1870-х гг. ставших существенным источником формирования городского населения. Основной контингент иностранных жителей составляли китайские отходники, прибывавшие сюда на заработки на короткий срок (не более 3–4 лет). Центрами сосредоточения иностранных граждан были гг. Владивосток, Б-лаговещенск, Никольск-Уссурийский и Хабаровск. Напуганное масштабами иностранной миграции, царское правительство предприняло попытку к ее сокращению. В 1910 г. был принят закон, ограничивший использование «желтого труда» и позволивший несколько сбить «китайскую миграционную волну». Однако достигнутый эффект был непродолжительным.
Первая мировая война, усилившая отток на запад европейской части дальневосточного населения, увеличила потребность в китайских рабочих. Особенно нуждался в них город-порт Владивосток, через который происходил связанный с войной транзит огромного количества грузов. В 1916 г. китайцы оставляли 40,2% населения города. Наличие значительной массы рабочих-мигрантов позволяло предпринимателям извлекать дополнительную прибыль, не вкладывая средства в создание благоприятных условий труда и быта городских жителей.
Таким образом, формирование сельского и городского населения Дальнего Востока с самого начала существенно различалось. При организации аграрной колонизации учитывались факторы, обеспечивавшие высокую степень приживаемости переселенцев. В отличие от этого неземледельческое переселение строилось в расчете на скорейшее удовлетворение потребностей дальневосточной промышленности в рабочей силе, пусть даже за счет временного работника. Отсюда и сменяемый состав городских жителей, и отсутствие продуманной социальной политики, направленной на их закрепление. Власть предпочитала тратить средства на перемещение значительных масс населения, а не на строительство в отдаленной окраине жилья, учреждений образования, здравоохранения и т.п. Негативно влияла на «закрепляемость» городского населения и несбалансированность экономики региона. Преимущественное развитие здесь получили добывающие отрасли. Обрабатывающая промышленность практически отсутствовала, что делало регион совершенно несамостоятельным. К 1913 г. дальневосточная экономика лишь на 45,5% удовлетворяла потребности внутреннего рынка в промышленных товарах, 32,2% всего необходимого завозилось из центра, еще 24,5% покрывалось за счет импорта. В годы первой мировой войны сложившиеся диспропорции в развитии дальневосточной экономики еще более усилились.
После революции 1917 г. и затянувшейся гражданской войны и интервенции рост дальневосточного населения замедлился. Экономика региона была почти полностью разрушена. Р-азрыв экономических связей усугубил сложность обстановки. Здесь сильнее, чем где-либо еще, ощущался острый недостаток самых необходимых продуктов и предметов потребления. В начале 1920-х гг. у центрального руководства страны не было четкого плана относительного перспектив дальнейшего развития Дальневосточного региона. Только к середине 1920-х гг. позиция центральной власти по отношению к региону начала меняться. В 1926 г. был образован Дальневосточный край с весьма обширной территорией. Изменение отношения было связано прежде всего с начавшейся индустриализацией, потребовавшей значительных капиталовложений, в том числе и валютных. Это заставило обратить внимание на экспортную привлекательность сырьевых ресурсов Дальнего Востока. С 1926 г. в Дальневосточный край стали поступать централизованные капиталовложения. Они направлялись исключительно в валютно-экспортные отрасли народного хозяйства, что усиливало диспропорцию дальневосточной экономики. Кроме того, осложнение международной обстановки на Дальнем Востоке в связи с ухудшением отношений СССР- с Японией, а затем и с Китаем, поставило вопрос о необходимости укрепления восточных границ. Здесь стали сосредотачиваться значительные военные сухопутные и морские силы, создаваться оборонные отрасли промышленности на долгие годы, определившие экономическую стратегию дальневосточной экономики.
Все вышесказанное предопределило исключительно быстрый рост населения, прежде всего городского. По сравнению с 1926 г. численность горожан в Дальневосточном крае к 1939 г. увеличилась в 3,4 раза (сельского населения – в 1,5 раза). Дальний Восток в этот период демонстрировал самые высокие темпы урбанизации. Так, доля горожан в Приморском крае за 14 лет выросла с 27,1% до 51,2%, в Хабаровском – с 27,2% до 47,5% (в Р-СФСР- – с 18,0% до 33,5%)1. Основным источником столь стремительного увеличения дальневосточного населения оставалось переселение жителей центральных районов страны. По неполным данным, за 1925–1937 гг. только в результате сельскохозяйственного переселения прибыло 175,8 тыс. человек, при этом основная часть из них (75,0%) водворилась в край в 1920-е гг. Промышленное переселение стало преобладающим в 1930-е гг. Общее количество неземледельческих переселенцев определить довольно сложно. Б-ольшинство исследователей считает, что в города и рабочие поселки Дальнего Востока было завезено более 2 млн. человек. Однако степень «закрепля-емости» новоселов в 1920–1930-е гг. была еще ниже, чем в дореволюционный период. Даже среди сельскохозяйственных переселенцев возвратная миграция составляла 37,3%, что объяснялось, кроме всего прочего, ошибками, допущенными в подборе состава переселенцев и предоставлении им льгот. Еще более низкую приживаемость демонстрировало промышленное переселение. Так, из 1081,7 тыс. человек, прибывших в 1928–1941 гг. в города и поселки Приморского края, назад вернулось 778 тыс. человек (71,9%)1. Дело в том, что замедленное социально-экономическое развитие Дальнего Востока в 1920-е гг. еще больше усилило исторически сложившееся отставание уровня жизни дальневосточников. В 1928 г. зарплата рабочих и служащих Дальнего Востока была в промышленности на 26,7%, на транспорте на 19,9%, в строительстве на 33,3% ниже средних показателей по РСФСР. Сохранялись тяжелые жилищные условия, товарный дефицит, низкий уровень медицинского и культурного обслуживания2.
Выделяемых государством средств хватало на вербовку и перемещение значительных масс людей. Однако их было недостаточно для того, чтобы создать для новоселов приемлемые материальные и социальные условия, способствовавшие их закреплению. Поэтому в 1930-е гг. были случаи, когда завозимые в край рабочие отказывались выйти из вагонов до тех пор, «пока им не дадут планового снабжения, жилищ хороших и пока не удовлетворят все, что записано в договоре». Выполнить все их требования у руководителей предприятий просто не было возможности. «Мы выполняем все условия, – говорили они, – кроме жилищ… Поэтому привозимые рабочие на 75–80% уезжают обратно»3. Жилищная ситуация была наиболее сложной. Темпы жилищного строительства значительно отставали от роста городского населения. Если в 1927 г. на одного жителя дальневосточных городов приходилось чуть более 4,4 кв. м., то в 1937 г. – всего 2,86 кв. м. Особенно тяжелым было положение с жильем в городах-новостройках. Жители Комсомольска на протяжении длительного времени вынуждены были довольствоваться шалашами, землянками, палатками, наскоро сколоченными времянками, приспосабливать под жилье сараи, конторы, мастерские и т.п.
В этой ситуации не способствовали «закрепляемости» работников и прини- маемые правительством решения о повышении заработной платы дальневосточникам. Дававшиеся ими преимущества нивелировались плохо налаженным снабжением, нехваткой продуктов питания и товаров первой необходимости, неразвитостью социально-культурной сферы. Так, согласно официальным данным, в 1937 г. годовой фонд заработной платы рабочих и служащих Комсомольска составлял 227,2 млн. руб., а товарооборот за этот год – только 133,7 млн. руб., так как товарными фондами город был обеспечен только на 58,8% от потребнос-ти4. Нерастраченные денежные средства становились дополнительным стимулом возвратной миграции населения.
Безусловно, не только хозяйственные, но и советские и партийные руководители осознавали причины слабой «закреп-ляемости» переселенцев. Но вместо того, чтобы предпринять все усилия для строительства жилья, улучшения снабжения, культурного и медицинского обслуживания, власти предпочли прибегнуть к способам, апробированным еще царской администрацией. Прежде всего при переселении стали отдавать предпочтение холостым мужчинам. Делая заявку о потребности в рабочей силе, директора промышленных предприятий требовали: «…присылать исключительно одиноких рабочих, так как семейных селить негде». В результате исторически сложившаяся на Дальнем Востоке диспропорция между мужским и женским населением значительно увеличилась, особенно в быстро растущих городах. В результате основным типом горожанина (а городские жители к концу 1930-х гг. составляли на Дальнем Востоке уже более 50% населения, проявляя ярко выраженную тенденцию к дальнейшему росту) по-прежнему оставался «временный житель». Он готов был требовать для себя приемлемых жизненных условий, но не видел смысла самостоятельно предпринимать необходимые действия для их улучшения. В свою очередь, установка на заведомо «временный контингент» в определенной степени освобождала краевое руководство от необходимости создавать жизненные условия для лучшей приживаемости завозившегося населения.