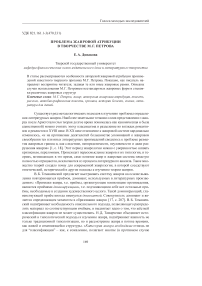Проблема жанровой атрибуции в творчестве М. Г. Петрова
Автор: Дивакова Евгения Алексеевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 3, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности авторской жанровой атрибуции произведений известного тверского прозаика М. Г. Петрова. Показано, как писатель направляет восприятие читателя, задавая те или иные жанровые рамки. Описаны случаи использования М. Г. Петровым нестандартных жанровых форм и стыковки различных жанровых структур
М. г. петров, жанр, авторская жанровая атрибуция, повесть, рассказ, автобиографическая повесть, хроника, история болезни, сказка, литература для детей
Короткий адрес: https://sciup.org/146281281
IDR: 146281281 | УДК: 821.161.1-3(470.331)
Текст научной статьи Проблема жанровой атрибуции в творчестве М. Г. Петрова
Существует ряд методологических подходов к изучению проблемы определения литературных жанров. Наиболее заметными точками слома представления о жанрах после Аристотеля (чья теория долгое время понималась как каноническая и была единственной) можно считать эпоху классицизма и разделение во взглядах романтиков и реалистов в XVIII веке. В XX веке отношение к жанровой системе кардинально изменилось, «и на протяжении десятилетий большинство упоминаний о жанровом своеобразии тех или иных литературных произведений сводилось к проблеме размытия жанровых границ и, как следствие, неопределимости, неуловимости и даже разрушения жанров» [1, с. 18]. Этот период жанрологии можно с уверенностью назвать кризисным, переломным. Происходит переосмысление жанров и их типологии, в теориях, возникающих в это время, само понятие жанр и жанровая система зачастую полностью отрицаются, исключаются из процесса литературного анализа. Такое множество теорий создало почву для современной жанрологии, в которой соседствуют генетический, исторический и другие подходы к изучению теории жанров.
В. Б. Томашевский предлагает выстраивать систему жанров на основе выявления повторяющихся приёмов, доминант, используемых в литературных произведениях: «Признаки жанра, т.е. приёмы, организующие композицию произведения, являются приёмами доминирующими, т.е. подчиняющими себе все остальные приёмы, необходимые в создании художественного целого. Такой доминирующий, главенствующий приём иногда именуется доминантой. Совокупность доминант и является определяющим моментом в образовании жанра» [17, с. 207]. В. Б. Томашевский подчёркивает необходимость описательного подхода, позволяющего распределить материал по соответствующим ячейкам, и выдвигает идею о том, что жёсткой классификации жанров не может существовать. Н. Д. Тамарченко объединяет исторический и типологический подходы к изучению жанра, подчёркивает важность не только традиционной типологизации, но и рассмотрение жанра в потоке времени, как живой и изменяющейся структуры. «Категория жанра необходима отнюдь не для “классификации” – как, к сожалению, полагают многие (в противном случае её значение в поэтике было бы ничтожным), а для адекватного понимания смысла литературных явлений. Принадлежность произведения к определённому жанру указывает на традиционные, исторически устойчивые и, если угодно, типические аспекты его смысла» [16, с. 4].
На наш взгляд, жанр – данность, форма, которую выбирает автор для того, чтобы поместить в неё некое содержание. В частности, Чехов вполне осознанно назвал «Вишневый сад» комедией, это подтверждается в одном из новейших исследований: «Импрессионистичность, сиюминутность, эфемерность, иллюзорность, текучесть ценностей и взглядов российской интеллигенции – вот предмет осуждения и осмеяния Чехова, вот основа комедийной жанровой сущности пьесы. Для самого Чехова онтологическая сущность в этой комедии – Россия, показанная не риторически, а вполне реалистически, с помощью символического образа русской женщины – матери Яши, которая пришла повидаться, а потом проститься со своим «оевропеившимся» сыном, но так и не встретилась с ним» [8, с. 68].
Базовые жанры, как основа, присутствуют в литературе повсеместно, но варьируются внутри своих традиционных рамок и даже образуют новые жанровые структуры на стыках существующих. «Литературный жанр по самой своей природе отражает наиболее устойчивые, “вековечные” тенденции развития литературы. В жанре всегда сохраняются неумирающие элементы архаики . <…> Жанр живёт настоящим, но он всегда помнит своё прошлое, своё начало. Жанр – представитель творческой памяти в процессе литературного развития. <…> Вот почему для правильного понимания жанра и необходимо подняться к его истокам» [2, с. 314]. Тот же А. П. Чехов обращался к жанрам древнерусской литературы в процессе своих творческих поисков, и С. Ю. Николаева, изучавшая связи чеховского творчества с традициями древнерусской литературы и культуры, писала об этом так: «Жанровый эксперимент молодого художника подготовил черты жанрового новаторства многих поздних его произведений и позволил создать художественную концепцию, в основе которой – утверждение права человека на поиск истины, превосходств живой жизни над любым каноном. Чехов изображал “жизнь, а не житие”» [9, с. 165].
Вопрос о том, насколько целесообразно использовать жанровый подход при анализе художественных произведений, также полемичен. Есть сторонники позиции отказа от жанровой атрибуции текстов, предпочитающие анализировать произведение как обособленное художественное целое, не вписывающееся в систему. Такая позиция, сформировавшаяся в XX веке, легко объяснима. Попытки создать новое искусство, нарушающее привычные границы, привели к накоплению огромного пласта литературных произведений, не соответствующих жанровым канонам. Однако «жанры не умерли, но существенно трансформировались: из канонических они превратились в неканонические» [3, с. 357]. Поэтому полностью отказываться от жанрового подхода при анализе произведений – нерационально. Но, безусловно, необходимо учитывать особенности поэтики, свойственные той или иной эпохе в целом, а также собственные авторские воззрения на жанровую атрибуцию своих произведений, если они прямо или косвенно им заявлены.
Мы придерживаемся жанрового подхода при анализе произведений, так как считаем жанровую атрибуцию текста одним из важнейших условий его прочтения. М. Г. Петров указывает жанровую принадлежность большинства своих произведений и, таким образом, задаёт направление их интерпретации.
Михаил Григорьевич Петров (1938–2015) – прозаик, публицист, литературный критик, журналист, издатель и краевед. Родился в Омской области, но большую часть жизни провёл в Твери. С 1983 года – член Союза писателей СССР, затем России. Создатель и бессменный редактор журнала «Русская провинция». Авторское наследие М. Г. Петрова насчитывает пять сборников прозы, пять публицистических сборников, а также многочисленный публикации в различных журналах и газетах («Наш современник», «Смена», «Москва», «Новый мир», «Нева», «Волга», «Лепта», «Слово», «Дон», «Роман-газета», «Литературная газета»).
В данной работе мы рассмотрим лишь художественную прозу М. Г. Петрова и, говоря о жанрах, кроме прочего, будем исходить из времени написания и публикации тех или иных произведений. Всё литературно-художественное творчество автора поддаётся условному делению по хронологическому принципу на раннее, это период с 1978 года (первая публикация повести «Сны золотые» в журнале «Наш современник») до 1991 года (год основания журнала «Русская провинция»), и позднее, которое охватывает период с 2003 года (год закрытия журнала «Русская провинция») до 2015 (год смерти автора).
Период между 1991 и 2003 годами – время работы М. Г. Петрова в журнале «Русская провинция» – характеризуется большим количеством публицистических работ, но литературно-художественные произведения автор в этот период почти не создаёт и не публикует. Однако отсутствие литературно-художественных произведений в вышеуказанный период отнюдь не говорит о полном разрыве автора с литературным творчеством. Этот период правильнее охарактеризовать, как время накопления литературного опыта, формирования авторской позиции, в частности, гражданской, политической, социальной, которые потом лягут в основу множества литуратурно-художественных произведений. Кроме прочего, масштабная редакторская работа позволила автору дополнить свой писательский опыт, так как при работе над «Русской провинцией» М. Г. Петров прочитывал, отбирал, редактировал, рецензировал огромное количество рукописей.
На первый взгляд, жанровый арсенал автора вполне традиционен. Так, все авторские сборники художественной прозы состоят в основном из повестей и рассказов. Но есть и исключения, которые относятся в основном к раннему периоду творчества. Например, в сборнике «На осеннем ветру» (1991) в разделе повестей читатель встречает довольно редкую жанровую разновидность драматической повести.
М. Г. Петров не просто указывает жанровую принадлежность драматической повести «Контора», но и даёт справку, разъясняющую читателю особенности этого непривычного жанрового образования:
«Жанр “драматической” прозы существует давно. К примеру, в немецкой литературе живёт так называемая лезедрама, то есть драма, предназначенная не для сцены, а специально для чтения, и пользуется она у читателей не меньшим успехом, чем проза повествования. Существовал подобный жанр в древнегреческой и средневековой японской литературе. Не чуждалась драматических форм и русская классическая проза. Вспомним хотя бы написанные в форме диалогов очерки Н. С. Лескова или знаменитые сцены из домашней и общественной жизни М. Н. Загоскина, известные нам под названием “Москва и москвичи”. Как писал Загоскин, оправдывая эту форму, “когда разговаривают многие, тогда рассказ решительно не у места. Все эти пояснительные речи: такой-то сказал, такая-то отвечала, тот возразил, этот прервал, та подхватила – только что сбивают и путают читателя, итак, позвольте мне прибегнуть к обыкновенной драматической форме. Это будет яснее и проще…”
Позвольте и мне, художественного впечатления ради, сделать то же самое, очертив лишь для начала место, где происходят события и некоторых лиц, которые в них участвуют»[12, с. 75].
Подобная авторская атрибуция жанра является исчерпывающей: Петров не только указывает на жанровую принадлежность, но и оправдывает её выбор. В данном примере явно прослеживается первенство формы по отношению к содержанию.
В этом же сборнике находим рассказ газетчика «Продаётся дом на берегу реки» [Там же, с. 215]. Тема журналистского творчества, свойственная для раннего периода, поднимается и в рассказе «Пыль» [13, с. 220].
Примечательной с жанровой точки зрения является в сборнике «На осеннем ветру» и повесть «Жизнеописание Дмитрия Шелехова». Ставя произведение в раздел повестей, Петров выносит в название ещё один жанроопределяющий маркер – «жизнеописание», то есть документальный, биографический жанр. И действительно, прототипом для главного героя повести Петрова послужил реальный человек – Дмитрий Потапович Шелехов (1792–1854), писатель, автор сельскохозяйственных сочинений. При создании образа Шелехова автор тяготеет к его общественной, трудовой, политической, сельскохозяйственной, просветительской деятельности. В повести нет портрета Дмитрия Потаповича, отсутствуют бытовые и жизненные ситуации. Всё повествование сконцентрировано вокруг его трудов и учений. Текст насыщен рассуждениями о жизни государства и общества, развитии сельского хозяйства и крестьянства, а пейзажные и портретные описания, напротив, отсутствуют. Важной составляющей повести является эпилог, в котором автор, отступая от чисто художественного нарратива, переходит скорее к художественно-публицистическому жанру эссе, реализуя через эту форму свои мысли о проблемах памяти и забвения, исторического наследия.
Спустя девятнадцать лет данное произведение выходит в составе сборника «Жизнеописание Дмитрия Шелехова» в серии «Жизнь замечательных тверитян» [11]. В состав сборника также входят «Молочные реки, кисельные берега» (эссе о трудах и деятельности Н. В. Верещагина), «Отвергнутый камень» (эссе об А. И. То-дорском с письмами С. М. Ухтомского к А. И. Голубеву), «Под спудом» (эссе о В.И. Симакове) и «Иван Иванович» (документальная повесть об И. И. Смирнове).
Повесть «Иван Иванович» по жанровой специфике примыкает к «Жизнеописанию Дмитрия Шелехова». Её героем является реальный человек, основатель краеведческого музея в Пено Иван Иванович Смирнов. Но повествование, несмотря на реальные события, описываемые в произведении, является художественным.
Биографическое направление автор разрабатывает и в своём позднем творчестве, используя такие формы, как эссе, биографический очерк, записанное воспоминание. Но всё же основной массив литературно-художественного наследия Петрова составляют произведения, относящиеся к традиционным повествовательным жанровым формам рассказа и повести.
Ранние произведения автора, примыкающие в деревенской прозе, ещё полны социалистических реалий, современных периоду их написания, но общекультурная база явно читается и на их фоне. Так, японская вишня из одноимённого рассказа, вошедшего в сборник «Сны золотые» [13], выступает в рассказе символом красоты, тяги человека к прекрасному (плоды сакуры несъедобны, и она выращивается лишь в декоративных целях) и одновременно символом бренности и быстротечности жизни, переменчивости бытия, недолговечности всего прекрасного. Прослеживается и отсылка к пьесе А. П. Чехова «Вишнёвый сад». Сходство наблюдается не только в том, что центральным образом произведения является сад, но и в том, что автор поднимает проблематику смены поколений, смены жизненных ценностей.
М. Г. Петров указывает на жанровую принадлежность «Японской вишни», включая произведение в раздел рассказов. Есть также ряд формальных признаков, которые указывают на то, что перед нами рассказ: малый объём произведения, одна сюжетная линия, наличие рассказчика, фабульность – эти элементы не всегда, но как правило, характеризуют именно рассказ. Литературоведы отмечают особое значение знаковости, необходимой для того, чтобы сконцентрировать в рассказе, несмотря на его малую форму, множество образов, смысловых линий: «Так, собирая, концентрируя, сокращая мир в одну обозримую каплю, система носителей жанра рассказа одновременно даёт представление о том, что мир не замкнут в этой капле, что она сама скреплена многочисленными, уходящими в бесконечную даль лучами с большим миром» [6, с. 213].
К некоторым рассказам и повестям, написанным в ранний период творчества, Петров возвращается и в позднем периоде, таковы рассказы «Гуси», «Протест», повести «Сны золотые», «Наследники». Он включает их в новые сборники, частично перерабатав, отредактировав. Наиболее примечательным с точки зрения жанровой атрибуции произведений является сборник « Cancer и другие истории» [10]. Это первый после длительного перерыва сборник художественных произведений (2009), в него вошли рассказ «Смёртные ключи» и несколько повестей.
Произведение, давшее название сборнику, – «Cаncer» отпределяется Петровым как история одной болезни . Формально это повесть, но автору важно подчеркнуть, во-первых, сказовость повествования (история): линейный сюжет, некий пересказ событий, сопровождающих этапы болезни; во-вторых, определяя жанр таким образом, автор прибегает к игре слов, используя устойчивое выражение «история болезни». В итоге получается некий синтез медицинского документа, поэтапных сведений о болезни, взятых из медицинской карты, и художественного повествования.
Кроме того, такая формулировка жанра является смысловой контаминацией двух понятий, обозначающих нечто всеобщее («история») и конкретно-единичное («одной болезни»). Таким образом, типическое переводится в разряд индивидуального переживания и обратно. За счёт этого достигается исповедальность повествования и в то же время общность судьбы рассказчика с другими людьми, попавшими или могущими попасть в аналогичную ситуацию. Здесь уместно вспомнить похожие заглавия, подзаглавия, уточняющие заголовки, и жанровые определения из совершенно разных культурных пластов, такие как «История одного города», «Пигмалион, или История одного пари», «Парфюмер. История одного убийцы» и др.
Возвращаясь к теме жизнеописаний и документальных повестей, о которых мы говорили выше, важно отметить, что «Cancer» является автобиографической повестью, несмотря на её неоспоримую художественность, и тематически примыкает к некоторым повестям, эссе, воспоминаниям.
В сборнике « Cancer и другие истории» мы встречаем новый для автора жанр – хроники. Петров объединяет несколько повестей, связанных единой тематикой, в цикл «Сибирские хроники». Туда входят такие произведения, как «Мытарь пролетариата» и «Год 1954-й». Петров родился и вырос в сибирском посёлке, тема Сибири проходит лейтмотивом во всём его творчестве. Особенно это характерно для позднего периода, когда автор возвращается к детским и юношеским воспоминаниям. В цикл вошли разные истории, их герои – разные люди, но всех их связывает Сибирь.
Помимо повестей, рассчитанных на взрослого читателя, в сборник включена одна детская повесть – «Кока Морока», написанная в 1966 году в Омске. Дру- гие детские произведения автора выходили отдельным изданием «Цып и цып-цып» [14]. «Кока Морока» – увлекательная повесть о сказочном человечке и мальчике Егошке. Жанровая принадлежность произведения обозначена автором как «невероятная история».
Тема детства объединяет и произведения, включённые автором в его последний сборник «Ярчук» [15]. Концепцию писатель разрабатывал сам, но вышел сборник уже после его смерти. В сборник включены рассказы и повесть «Люди с ветра», которая ранее выходила под названием «Год 1954-й» в составе цикла «Сибирские хроники». Эта последняя книга автора наиболее проста с жанровой точки зрения. Петров, перепробовав различные жанровые формы, в итоге выбирает традиционные жанры рассказа и повести, включая эту атрибуцию в заголовочный комплекс всех произведений сборника. Петров готовил сборник «Ярчук» не только как книгу о детстве, но и как книгу для детей среднего и старшего школьного возраста. Именно поэтому, что характерно для жанра детских рассказов и повестей, издание проиллюстрировано. Детскую литературу условно разделяют на три категории: 1) произведения написанные непосредственно для детей, 2) произведения, адресованные взрослым, но интересные и детской аудитории, 3) произведения, созданные детьми. Сборник Петрова – это произведения, изначально предназначенные для взрослого читателя. Проблематика, поднимаемая в них, – глубокая, обширная, не нацеленная на ребёнка. Но благодаря простому языку и повествовательным формам, близким по духу их героям – детям, эти произведения находят отклик у ребят и подростков. Автор целенаправленно отбирал произведения с линейным сюжетом, простым для восприятия хронотопом. Эти произведения характеризуются яркой образностью, в них отсутствуют сложные лексические и синтаксические конструкции, повествование насыщено действием и диалогами.
Таким образом, М. Г. Петров работал с различными жанровыми формами, в некотором роде экспериментируя, используя нестандартные жанровые подходы. Жанр для автора – одна из составляющих диалога с читателем, предзаданное условие прочтения произведения. Творческое наследие автора – это разнообразные биографические и автобиографические жанры, традиционные художественные повествовательные формы рассказа и повести, произведения для детей и подростков, синтез журналистских и литературно-художественных жанров, вариации драматического жанра, цикл повестей и др. Для М. Г. Петрова атрибуция по жанровому признаку – неотъемлемая составляющая произведения, как и заглавие. Автор изначально задаёт определённые рамки, форма становится первичной, наполняясь содержанием в соответствии с некими условиями. Жанровое разнообразие в целом становится конструктором, элементы которого можно переставлять, меняя вектор восприятия в зависимости от жанровой атрибуции.
Список литературы Проблема жанровой атрибуции в творчестве М. Г. Петрова
- Баринова Е. Е. Проблема классификации и теории литературных жанров//Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 6 (260). Филология. Искусствоведение. Вып. 64. С. 17-25.
- Бахтин М. М. Проблемы творчества Достоевского. Киев: Next, 1994. 509 с.
- Бройтман С. Н. Историческая поэтика: учеб. пособ. М.: Рос. гос. гумм. ун-т, 2001.
- Зенкин С. Теория литературы. Проблемы и результаты: Учеб. пособие. М.: Новое литературное обозрение, 2018. 368 с.
- Ивлева Т. Как «сделан» художественный текст: Учеб. пособие. М.: Флинта, 2018. 196 с.
- Лейдерман Н. Л. Теория жанра. Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2010.
- Литовская М., Савкина И. Читать нельзя изучать. Книга о массовой литературе для учителей и учеников. Екатеринбург: Кабинетный учёный, 2017. 150 с.
- Николаева С. Ю. Импрессионистический экфрасис в пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад»//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2018. № 1. С. 59-70.
- Николаева С. Ю. А. П. Чехов и древнерусская культура: Монография. Тверь, 2000. 168 с.
- Петров М. Г. Cancer и другие истории. Повести. Тверь: Рус. провинция, 2009. 320 с.
- Петров М. Г. Жизнеописание Дмитрия Шелехова. Тверь: Седьмая буква, 2010. 164 с.
- Петров М. Г. На осеннем ветру. М.: Молодая гвардия, 1991. 336 с.
- Петров М. Г. Сны золотые: Повести и рассказы. М.: Современник, 1985. 272 с.
- Петров М. Г. Цып и цып-цып: Рассказы для дошк. возраста. Новосибирск, 1967. 31 с.
- Петров М. Г. Ярчук: Рассказы, повесть. Тверь: Волга, 2016. 228 с.
- Теория литературных жанров: Учеб. пособие/Под ред. Н. Д. Тамарченко. М.: Академия, 2012. 256 с.
- Томашевский В. Б. Теория литературы. Поэтика: Учеб. пособие. М.: Аспект Пресс, 2002. 334 с.