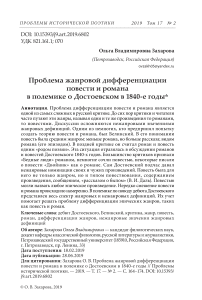Проблема жанровой дифференциации повести и романа в полемике о Достоевском в 1840-е годы
Автор: Захарова Ольга Владимировна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.17, 2019 года.
Бесплатный доступ
Проблема дифференциации повести и романа является одной из самых сложных в русской критике. До сих пор критики и читатели часто путают эти жанры, называя одни и те же произведения то романами, то повестями. Дискуссии осложняются нежанровыми значениями жанровых дефиниций. Одним из немногих, кто предпринял попытку создать теорию повести и романа, был Белинский. В его понимании повесть была средним жанром: меньше романа, но больше рассказа; видом романа (его эпизодом). В поздней критике он считал роман и повесть одним «родом поэзии». Эта ситуация отразилась в обсуждении романов и повестей Достоевского 1840-х годов. Большинство критиков признали «Бедные люди» романом, немногие сочли повестью, некоторые писали о повести «Двойник» как о романе. Сам Достоевский подчас давал нежанровые номинации своих и чужих произведений. Повесть была для него не только жанром, но и типом повествования, содержанием произведения, сообщением, «рассказом о былом» (В. И. Даль). Повестью могли назвать любое эпическое произведение. Нередко смешение повести и романа происходило намеренно. В полемике по поводу дебюта Достоевского представлен весь спектр жанровых и нежанровых дефиниций. Их учет помогает решать проблему дифференциации эпических жанров, таких как повесть и роман.
Дебют достоевского, белинский, критика, жанр, повесть, роман, дифференциация жанров, нежанровые значения жанровых дефиниций
Короткий адрес: https://sciup.org/147226196
IDR: 147226196 | УДК: 821.161.1; | DOI: 10.15393/j9.art.2019.6802
Текст научной статьи Проблема жанровой дифференциации повести и романа в полемике о Достоевском в 1840-е годы
З а редким исключением многие критики до сих пор плохо различают повесть и роман: путаются в жанровых дефинициях, дают разные номинации одному и тому же произведению, ошибаются в суждениях по истории и теории жанров.
Отчасти это отражает реальную сложность историко-литературного процесса, историю жанров в русской литературе XVIII-XIX вв. В свое время проблема разграничения эпических жанров была поставлена в трудах В. В. Сиповского. Составляя историю жанров, исследователь, по собственному признанию, позволил «себе некоторую свободу»: с одной стороны, «из всех сатирических журналов XVIII в. мы извлекли лишь несколько подходящих для нас отрывков», с другой, — «включили в число романов некоторые из тех неопределенных синкретических жанров, которые примыкают одинаково к морали и повести, истории и роману, мемуарам и художественному творчеству» [Сиповский: II]. Сложность разграничения эпических жанров, по мнению В. В. Сиповского, заключается в отсутствии критериев их определения: «Труднее всего было отграничить повесть от анекдота, роман от поэмы, и, быть может, за разрешение этих сомнений мы справедливее всего подвергнемся обвинению в субъективизме выбора. Но на это обвинение мы ответим просьбой указать нам те литературные нормы, которые дали бы возможность ясно и точно определить границы, заметной чертой отделяющие эти литературные жанры один от другого» [Сиповский: II]. Сам В. В. Сиповский указывает единственный критерий: в список романов он внес «произведения только прозаические» [Сиповский: II]. Описывая критические статьи, опубликованные в журналах XVIII в., исследователь отмечает лишь случайные замечания критиков о романе: «тяготение к реализму», «отрицание фантастики», «мнения о пользе и вреде романов». По его мнению, «попытки дать теорию романа, или хотя бы, точное его определение сводились к определению отличия романа от родственных ему жанров: поэмы и истории» [Сиповский: VIII]; одна из причин отсутствия теории романа в начале XIX века лежит в «быстром развитии романа» [Сиповский: X].
Белинский был одним из тех немногих критиков, кто пытался создать теорию повести и романа. В статье «О русской повести и повестях Гоголя» (1835) он определил повесть как «эпизод из беспредельной поэмы судеб человеческих», «распавшийся на части, на тысячи частей, роман; главу, вырванную из романа» [Белинский, 1953: 271]. Потребность данного жанра обусловлена тем, что «мы беспрестанно суетимся, хлопочем, мы дорожим временем, нам некогда читать больших и длинных книг — словом, нам нужна повесть» [Белинский, 1953: 271]. В его понимании повесть не драма, не роман, а нечто среднее. Она вмещает разнообразное содержание в «тесные рамки»: «Есть события, есть случаи, которых, так сказать, не хватило бы на драму, не стало бы на роман, но которые глубоки, которые в одном мгновении сосредоточивают столько жизни, сколько не изжить ее и в века: повесть ловит их и заключает в свои тесные рамки. Ее форма может вместить в себе все, что хотите — и легкий очерк нравов, и колкую саркастическую насмешку над человеком и обществом, и глубокое таинство души, и жестокую игру страстей. Краткая и быстрая, легкая и глубокая вместе, она перелетает с предмета на предмет, дробит жизнь по мелочи и вырывает листки из великой книги этой жизни» [Белинский, 1953: 271-272].
Не зная истории повести, он сочинил ее: «В русской литературе повесть еще гостья, но гостья, которая, подобно ежу, вытесняет давнишних и настоящих хозяев из их законного жилища» [Белинский, 1953: 272]. Критик замечает, что «повесть наша началась недавно, очень недавно, а именно — с двадцатых годов текущего столетия. До того же времени она была чужеземным растением, перевезенным из-за моря по прихоти и моде и насильственно пересаженным на родную почву» [Белинский, 1953: 272]. С его точки зрения, история русской повести началась с повестей Бестужева-Марлинского, Одоевского, Погодина, Полевого, Павлова, Гоголя.
Позже в теоретическом трактате «Разделение поэзии на роды и виды» (1841) Белинский отмечает: « Повесть есть тот же роман, только в меньшем объеме, который условливается сущностию и объемом самого содержания. В нашей литературе этот вид романа имеет представителем истинного художника — Гоголя» [Белинский, 1954: 42].
Несмотря на попытки разграничения романа и повести, в критической практике Белинский не следовал своим теоретическим установкам.
В январе–феврале 1846 года Достоевский опубликовал роман «Бедные люди» и повесть «Двойник». Белинский называл их то романами, то повестями.
В библиографическом разделе февральского номера «Отечественных записок» критик отмечал: «…в “Петербургском сборнике” напечатан роман1 «Бедные люди» г. Достоевского — имя совершенно неизвестное и новое, но которому, как кажется суждено играть значительную роль в нашей литературе. В этой книжке «Отечественных записок» русская публика прочтет и еще роман г. Достоевского «Двойник», — этого слишком достаточно для ее убеждения, что такими произведениями обыкновенные таланты не начинают своего поприща» [Белинский, 1955: 475-476].
Месяц спустя он пишет о «Бедных людях» преимущественно как о романе. Рецензия на «Петербургский сборник» начинается с объявления жанра: «Бедные люди», роман г. Достоевского, в этом альманахе — первая статья и по месту и по достоинству» [Белинский, 1955: 543]. Далее еще девять раз критик назвал «Бедные люди» романом, но семь раз повестью. Критик не объясняет, почему эпистолярный роман не роман, а повесть — просто в рамках одного абзаца он последовательно именует произведение повестью:
«Слухи о «Бедных людях» и новом, необыкновенном таланте, готовом появиться на арене русской литературы, задолго предупредили появление самой повести » [Белинский, 1955: 549]; «…прочитав повесть , они увидят, что это такое…» [Белинский, 1955: 549];
«…успех «Бедных людей» был полный. Если б эту повесть приняли все с безусловными похвалами, с безусловным восторгом, — это служило бы неопровержимым доказательством, что в ней точно есть талант, но нет ничего необыкновенного» [Белинский, 1955: 549];
«…в этой повести заметен не совсем обыкновенный талант» [Белинский, 1955: 549].
В завершение абзаца критик снова называет «повесть» «романом»:
«Со временем, та же повесть будет казаться иною многим из тех, которые сочли преувеличенными предшествовавшие ее появлению слухи о высоком художественном ее достоинстве. Из всех критиков самый великий, самый гениальный, самый непогрешительный — время. Впрочем, не должно забывать, что роман г. Достоевского прочтен всеми только в Петербурге и что только Петербург обнаружил свое мнение о таланте нового поэта» [Белинский, 1955: 549].
В выводах дана иная логика смешения и иерархия жанров:
«Рассказывать содержание этого романа было бы излишне; делать большие выписки тоже. <…> это обстоятельство, может быть, заставит их вновь перечесть всю повесть » [Белинский, 1955: 555].
Критик называет романом не только «Бедные люди», но и повесть «Двойник»:
«Во многих частностях обоих романов г. Достоевского (“Бедных людей” и “Двойника”) видно сильное влияние Гоголя, даже в обороте фразы» [Белинский, 1955: 551];
«…между лицами романов г. Достоевского и повестей Гоголя существует такая же разница, как и между Попрыщиным и Башмачкиным, хотя оба эти лица созданы одним и тем же автором» [Белинский, 1955: 552];
«…в обоих романах г. Достоевского заметно сильное влияние Гоголя, и это должно относиться только к частностям, к оборотам фразы, но отнюдь не к концепции целого произведения и характеров действующих лиц» [Белинский, 1955: 552].
Десять раз в статье Белинский называет «Двойник» рома-ном2 и лишь один раз повестью, и то со ссылкой на чужое мнение:
«Что же касается до толков большинства, что “Двойник” — плохая повесть , что слухи о необыкновенном таланте его автора преувеличены, и т. п. — об этом г. Достоевскому нечего заботиться: его талант принадлежит к разряду тех, которые постигаются и признаются не вдруг» [Белинский, 1955: 566].
В его обзоре «Взгляд на русскую литературу 1847 года» «Хозяйка» — повесть [Белинский, 1956: 350], в другой статье — роман [Белинский, 1956: 363].
В критическом тезаурусе Белинского нет такой категории, как жанр [Кожинов: 80], [Захаров, 1984: 6-8], но все его номинации — жанровые.
В поздней критике Белинский считал роман, повесть и даже рассказ одним «родом поэзии»:
« Роман и повесть стали теперь во главе всех других родов поэзии.
-
<…> Это самый широкий, всеобъемлющий род поэзии ; в нем талант чувствует себя безгранично свободным» [Белинский, 1956: 315].
Видом повести, по Белинскому, были рассказы, физиологии, очерки:
«…кроме “ рассказа ”, давно уже существовавшего в литературе, как низший и более легкий вид повести , недавно получили в литературе право гражданства так называемые физиологии, характеристические очерки разных сторон общественного быта» [Белинский, 1956: 316].
Неразличение повести и романа — типичная ситуация в русской литературе. Большинство критиков признали «Бедные люди» романом, немногие сочли роман повестью (С. П. Шеверев, Э. И. Губер, К. С. Аксаков), некоторые, вслед за Белинским (Л. В. Брант, Ф. В. Булгарин, А. А. Григорьев), писали о «Бедных людях» как о романе и повести одновременно [Достоевский, 2015: 259–343].
В ряде случаев смешение повести и романа и происходило намеренно, как, например, в отзыве Ф. В. Булгарина:
«Мы прочли этот роман и сказали: бедные русские читатели!
Благодарим “Иллюстрацию”, что она также высказала несколько правд о “Петербургском сборнике” и оценила по достоинству повесть “Бедные люди”»3.
В №47 Л. В. Брант «Северной пчелы» называет «Двойник» романом4, в № 55 Ф. В. Булгарин именует Достоевского автором двух «весьма слабых повестей»5.
К. А. Полевой утверждал, что «Бедные люди» не роман:
«“Бедные люди” — не роман , как называет его автор, а отрывок, эпизод огромной картины, которая бывает перед глазами каждого поколения людей, и каждое прибавляет к ней какую-нибудь новую черту. Уловить одну из этих черт и представить ее с поразительною истиною есть уже большое искусство»6.
Свое мнение он аргументировал странным доводом — тем, что в сочинении нет «создания»: «…автор неверно назвал его “ романом ”; в романе необходим интерес события, тогда как тут только отдельные черты, хотя и верно набросанные»7.
Сам Достоевский подчас давал нежанровые номинации своих и чужих произведений [Захаров, 1985: 17, 23-34].
-
1 января 1840 г. он писал брату Михаилу о его стихах как «живой повести» о нем и о «странных и чудесных» событиях своей жизни как «предолгой повести », которую он «никому не расскажет»:
«Я вѣрю: въ жизни человѣка много, много печалей, горя и — радостей. — Въ жизни поэта это и тернъ и розы. Лирика — всегдашнiй спутникъ поэта; потому что онъ существо словесное. — Твои лирическiя стихотворенья были прелестны: Прогулка, Утро, Видѣнье матери, роза (кажется такъ), Ѳебовы кони, и много другихъ прелестны. — Какая живая повѣсть о тебѣ милый! И какъ близко она сказалась мнѣ. Я могъ тебя понимать тогда; потому что тѣ мѣсяцы были такъ памятны для меня, так памятны. — О, сколько случилось тогда и страннаго и чудесна-го въ моей жизни! — Это предолгая повѣсть , и я ее никому не разскажу»8.
Когда Варенька Доброселова вспоминает: «А теперь все пойдутъ грустныя, тяжелыя воспоминанiя; начнется повѣсть о моихъ черныхъ дняхъ» [Достоевский, 1995: 54], — она говорит не о жанре, а о событиях своей жизни, о которых она сообщает, рассказывает, повествует.
Подобная семантическая двойственность слова вызвана нежанровыми значениями слов, которые стали жанровыми дефинициями.
Повесть и рассказ не только жанр, но и тип повествования, содержание произведения, сообщение. Повестью могли назвать вообще любое эпическое произведение9.
Для Достоевского характерно глубокое понимание жанра повести, которая образована по типу повествования («изложению событий в том порядке, как они произошли»), по объему и сущности содержания [Захаров, 1985: 6, 26-28, 42-45, 65-72] (см. также: [Заваркина: 556-558]).
В полемике по поводу дебюта Достоевского 1840-х годов представлен весь спектр жанровых и нежанровых дефиниций его произведений. Их учет позволяет осознанно решать проблему дифференциации эпических жанров, таких как повесть и роман.
Примечания
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-012-90012.
-
1 Здесь и далее все выделения жирным шрифтом мои. — О. З .
-
2 Ср. некоторые отзывы: «Герой романа — г. Голядкин — один из тех обидчивых, помешанных на амбиции людей, которые так часто встречаются в низших и средних слоях нашего общества <…>. Еще в начале романа , из разговора с доктором Крестьяном Ивановичем, не мудрено догадаться, что г. Голядкин расстроен в уме. Итак, герой романа — сумасшедший!» [Белинский, 1955: 563].
«…каждое отдельное место в этом романе — верх совершенства» [Белинский, 1955: 564].
«Напечатанные курсивом фразы совершенно лишние, а таких фраз в романе найдется довольно» [Белинский, 1955: 565].
«…это же самое сделало неясными многие обстоятельства в романе …» [Белинский, 1955: 565].
«Существенный недостаток в этом романе только один: почти все лица в нем, как ни мастерски, впрочем, очерчены их характеры, говорят почти одинаковым языком. Больше указать не на что» [Белинский, 1955: 565].
«Знатоки искусства, даже и несколько утомляясь чтением “Двойника”, всё-таки не оторвутся от этого романа , не дочитав его до последней строки; но, во-первых, и они, дорожа и любуясь каждым словом, каждым отдельным местом романа , всё-таки чувствуют утомление; во-вторых, истинно большой талант так же должен писать не для одних знатоков, как и не для одной толпы, но для всех» [Белинский, 1955: 566].
-
3 Ѳ. Б. <Булгарин Ф.> Журнальная всякая всячина // Северная пчела. 1846. № 27. 1 февраля.
-
4 Я. Я. Я. <Брандт Л. В.> Русская литература. Журналистика. Отечественные записки. Январская и февральская книжки 1846 г. // Северная пчела. 1846. № 47. 27 февраля.
-
5 Ѳ. Б. <Булгарин Ф.> Журнальная всякая всячина // Северная пчела. 1846. № 55. 9 марта.
-
6 К. П. <Полевой К. А.> Библиография. Бедные люди. Роман Федора Достоевского. С.-Петербург. В типогр. Эдуарда Праца. 1847. В 8 д. л. 181 стран // Санкт-Петербургские ведомости. 1848. № 12. 5 января.
-
7 Там же.
-
8 Достоевский Ф. М. Письмо к Достоевскому М. М. От 1 января 1840 г. // Эпистолярное наследие Ф. М. Достоевского и его корреспондентов [Электронный ресурс]. URL: http:// http://philolog.petrsu.ru/fmdost/ letters/dostmm/kMMD01011840.htm
-
9 По В. И. Далю, повесть — «рассказ о былом или о вымышленном, словесный или письменный» [Даль: 151].
Список литературы Проблема жанровой дифференциации повести и романа в полемике о Достоевском в 1840-е годы
- Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: в 13 т. - М.: Изд-во АН СССР, 1953. - Т. 1. - 574 с.
- Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: в 13 т. - М.: Изд-во АН СССР, 1954. - Т. 5. - 863 с.
- Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: в 13 т. - М.: Изд-во АН СССР, 1955. - Т. 9. - 804 с.
- Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: в 13 т. - М.: Изд-во АН СССР, 1956. - Т. 10. - 474 с.
- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. - М.: Госуд. Изд-во иностранных и национальных словарей, 1955. -Т. 3. - 556 с.
- Достоевский Ф. М. Бедные люди / изд. подгот. К. А. Баршт. - М.: Ладомир: Наука, 2015. - 807 с., ил. (Литературные памятники).
- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: канонические тексты / Ф. М. Достоевский; изд. в авт. орфографии и пунктуации под ред. В. Н. Захарова; текстол. группа В. Н. Захаров [и др.]. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1995. - Т. 1. - 688 с.
- Заваркина М. В. Жанровая стратегия в повестях А. Платонова 1930-х годов // Проблемы исторической поэтики. - 2015. - Вып. 13. - С. 554-569 [Электронный ресурс]. - URL: http://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1456407233.pdf (дата обращения: 10.01.2019).
- DOI: 10.15393/j9.art.2015.3402
- Захаров В. Н. К спорам о жанре // Жанр и композиция литературного произведения: межвуз. сб. / отв. ред. М. М. Гин. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1984. - С. 3-19.
- Захаров В. Н. Система жанров Достоевского: типология и поэтика. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. - 208 с.
- Кожинов В. Роман - эпос нового времени // Вопросы литературы. - 1957. - № 6. - С. 64-93.
- Сиповский В. В. Из истории русского романа и повести / В. В. Сиповский. - СПб.: Паровая скоропечатня Г. П. Пожарова, 1903. - Ч. 1. XVIII век. - 351 с.