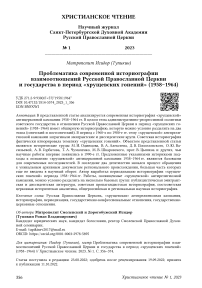Проблематика современной историографии взаимоотношений Русской Православной Церкви и государства в период "хрущевских гонений" (1958-1964)
Автор: Тупикин Роман Владимирович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Церковно-государственные отношения в советский период
Статья в выпуске: 1 (104), 2023 года.
Бесплатный доступ
В представленной статье анализируется современная историография «хрущевской» антицерковной кампании 1958-1964 гг. В целом тема административно-репрессивной политики советского государства в отношении Русской Православной Церкви в период «хрущевских гонений» (1958-1964) имеет обширную историографию, которую можно условно разделить на два этапа (советский и постсоветский). В период с 1960-х по 1980-е гг. тему «хрущевской» антирелигиозной кампании затрагивали эмигрантские и диссидентские круги. Советская историография фактически игнорировала тематику «хрущевских гонений». Объектом представленной статьи являются исторические труды М. И. Одинцова, В. А. Алексеева, Д. В. Поспеловского, О. Ю. Васильевой, А. В. Горбатова, Т. А. Чумаченко, М. В. Шкаровского, прот. В. Цыпина и других, чьи научные работы впервые появились в 1990-е гг. Предложенные указанными историками подходы к описанию «хрущевской» антицерковной кампании 1958-1964 гг. являются базовыми для современных исследователей. В последние два десятилетия начался процесс обращения к уникальным архивным документам регионального происхождения, большая часть которых еще не введена в научный оборот. Автор выработал периодизацию историографии «хрущевских гонений» периода 1958-1964 гг. Работы, посвященные «хрущевской» антирелигиозной кампании, можно условно разделить на несколько базовых групп: публицистическая эмигрантская и диссидентская литература, советская пропагандистская историография, постсоветская церковная историческая аналитика, общероссийская и региональная научная историография.
Русская православная церковь, «хрущевская» антирелигиозная кампания, историография, периодизация, государственно-конфессиональные отношения, государственно-церковные отношения
Короткий адрес: https://sciup.org/140297612
IDR: 140297612 | УДК: 271.2-9:930(47+57)"1958/1964" | DOI: 10.47132/1814-5574_2023_1_356
Текст научной статьи Проблематика современной историографии взаимоотношений Русской Православной Церкви и государства в период "хрущевских гонений" (1958-1964)
(Tupikin Roman Vladimirovich)
Candidate of Legal Sciences, Candidate of Theology, Rector at the Smolensk Orthodox Theological Seminary.
Постановка проблемы
В XX в. Русская Православная Церковь (далее — РПЦ) подверглась беспрецедентным в истории христианства гонениям. Репрессивная политика атеистического советского государства тщательно изучается историками в течение трех последних десятилетий. Однако и до сих пор не известны имена многих новомучеников и исповедников, не описаны обстоятельства совершенных ими подвигов. К настоящему моменту период «хрущевских гонений» (1958-1964) не изучен столь досконально, как гонения более раннего времени («сталинские репрессии»). Причина этого сравнительного невнимания, скорее всего, заключается в характере «хрущевской» антирелигиозной кампании, которая, по сути, была бескровной. Однако на текущий момент одной из актуальных тематик современной историографии становится проблема изучения взаимоотношений партийно-государственных органов власти с РПЦ в 1950–1960-х гг.
Любой ученый-историк, который занимается исследованием «хрущевской» антирелигиозной кампании 1958–1964 гг., обратит внимание на пестроту подходов и методик, использовавшихся в историографии по обозначенной теме. Исторической аналитике «хрущевских гонений» 1958–1964 гг. уже более шестидесяти лет; если детально изучить весь массив научной историографии, созданный на протяжении этого времени, можно выявить определенные закономерности и на их основании выстроить историографическую периодизацию. Автор настоящей статьи попытается дать характеристику каждому направлению исторической аналитики «хрущевской» антирелигиозной кампании 1958–1964 гг. за истекшие 60 лет. Историография церковно-государственных отношений любого исторического периода обусловлена действием множества исследовательских факторов: степень доступности архивных документальных материалов, конфессиональная или идеологическая приверженность авторов, объективно-научная мотивация или социально-политический «заказ», текущие тренды в научно-академическом сообществе и пр. Таким образом, целый спектр сторонних факторов оказывает существенное воздействие на конечный результат исторического анализа. Задача автора представленной статьи — проследить, как изменялись исследовательские направления в историографии «хрущевской» антирелигиозной кампании 1958–1964 гг.
Эмигрантская и диссидентская литература: освещение «хрущевских гонений»
Одними из первых на проблему церковно-государственных отношений в СССР в период «хрущевских гонений» обратили внимание представители группы зарубежных и диссидентских историков. Первым шагом в беспристрастной оценке «хрущевской» антирелигиозной кампании стала рассылка по епархиям и последующая публикация в самиздате «Открытого письма Патриарху Алексию» столичных клириков о. Николая Эшлимана и о. Глеба Якунина. Представленная церковно-политическая позиция двух московских священнослужителей фактически предвозвестила собой феномен церковного диссидентства. «Открытое письмо Патриарху Алексию», описывающее «страдальческий опыт Русской Церкви за последние годы» [Струве, 2000, 13], было опубликовано в зарубежной прессе накануне юбилейной даты 50-летия Октябрьской революции. Оно вызвало бурную реакцию со стороны западной общественности и предопределило исследовательский интерес эмигрантского сообщества к «хрущевской» антирелигиозной кампании. Кстати, наиболее репрезентативным историческим анализом церковного диссидентского движения в СССР является монография британской ученой Дж. Эллис [Эллис, 1990].
Стоит отметить, что формат «открытых писем» отличался публицистичностью, не претендуя на научный характер. Более того, авторам не была известна реальная статистика, нормативно-правовое сопровождение «хрущевской» антирелигиозной кампании. Одной из проблем подобных работ была ограниченность доступа к документальным материалам, которая вела к многочисленным фактологическим ошибкам и интерпретативным нестыковкам. В настоящий момент «открытые письма» можно называть ценным документальным свидетельством советской антирелигиозной политики 1958–1964 гг. И все же на тот период времени они претендовали на то, чтобы быть первым историческим анализом репрессивной кампании Н. С. Хрущева с выявлением ее причин, целей, исполнителей. Авторы фиксировали масштабные и систематические нарушения законодательства о религиозных культах по всей стране в течение продолжительного времени. Зарубежная и диссидентская историография была тем свежим глотком воздуха в плотной атмосфере лживой атеистической пропаганды. Именно из зарубежной литературы, конспиративно распространяемой в период «брежневского застоя», православные христиане СССР узнавали о реальных масштабах «хрущевской» антирелигиозной кампании.
С 60-х годов о гонениях в советской России стали активно писать «карловацкие» духовные писатели; к примеру, о. Григорий Граббе выпустил книгу «Правда о Русской Церкви на родине и за рубежом» в 1961 г. [Граббе, 1989]. Зарубежные историографы не жалели негативных красок в описании действий советской власти, что несколько мешало научной объективности исторического исследования, но в целом справедливо демонстрировало репрессивный характер советского режима [Русак, 1993]. Причем притеснения касались и самих исследователей. Например, В. С. Русак, создавший трехтомный труд «Свидетельство обвинения: Церковь и государство в Советском Союзе», опубликованный в США в 1980 г. и впоследствии существенно переработанный, за защиту Церкви подвергся репрессиям и эмигрировал в США, где принял сан диакона. Данное сочинение является одним из первых описаний «хрущевских гонений». Несмотря на большое количество неточностей, обусловленных очевидными трудностями, ценность работы заключается в передаче большого количества фактического материала, который автор получал от участников событий [Русак, 1993а].
Протоиерей Д. В. Константинов, некогда бывший священнослужителем обновленческой церкви и знакомый не понаслышке с вероисповедной политикой советской власти, издал монографию «Гонимая Церковь: русская Православная Церковь в СССР» в 1967 г. [Константинов, 1967]. Данная работа несколько раз переиздавалась в странах Западной Европы. Она отличалась взвешенностью исторических оценок и богатым статистическим материалом, что не было свойственно эмигрантской литературе. В указанном труде сделан акцент на специфике становления и развития атеистической пропаганды. Автор приходит к заключению о неэффективности и обреченности советского агитпропа [Константинов, 1967, 226]. Важной попыткой отразить реальную ситуацию церковно-государственных отношений в период «хрущевских гонений» стала его же книга «Зарницы духовного возрождения (православная церковь в СССР в конце шестидесятых — начале семидесятых)». Автор пытается применить дифференцированный подход к изложению истории РПЦ в указанный период. Протоиерей Д. Константинов отмечает важность не только институциональных изменений Русской Церкви, но и тех перемен, которые произошли в религиозности простых верующих за отмеченный период (в частности, для этого времени характерен запрет крестных ходов, закрытие святых источников) [Константинов, 1973].
Среди эмигрантской и диссидентской литературы, вышедшей позднее, следует отметить исследование Л. Регельсона [Регельсон, 1977], которое, отражая исторические вехи, не дает, однако, достаточно полной характеристики исследуемого периода. Здесь же следует упомянуть труд «Русская православная Церковь в XX веке» канадского историка Д. В. Поспеловского [Поспеловский, 1995], уделившего достаточно внимания исследуемому нами периоду. 11-я глава этой книги «Конец 50 — начало 60 годов. Новые процессы: Хрущевские гонения на Церковь» содержит статистические данные, в ней представлена определенная правовая база государственно-церковных отношений, содержатся примеры реализации религиозной политики государства на местах. Важным материалом для этой работы явились статьи в эмигрантских журналах, в том числе самиздатовские публикации. В каком-то смысле книга продолжила исследования таких зарубежных авторов, как Г. Рар (А. Ветров), Л. Регельсон, Г. Граббе, А. Боголепов. Причиной «хрущевской» антирелигиозной кампании, по мнению проф. Д. В. Поспе-ловского, была обеспокоенность партийной номенклатуры относительно послевоенного усиления РПЦ. Также профессор объясняет факт приостановки антирелигиозной кампании в 1964 г. переходом многих религиозных общин на нелегальное положение. Особое внимание уделено деятельности по защите Церкви патр. Алексия I (Симанского) и митр. Николая (Ярушевича), делавших все возможное для противостояния гонителям. Автор отмечает, что в случае смелого и решительного отпора со стороны верующих власти могли отступить и отказаться от закрытия храма или монастыря. К сожалению, такое сопротивление встречалось не часто [Поспеловский, 1995, 286–289]. При всех положительных качествах исследование Д. В. Поспеловского несет на себе отпечаток идеологизации: автор практически всегда характеризует действия государства как тоталитарные и антирелигиозные, что, безусловно, верно, но вследствие столь однозначной трактовки не отражается сложный и противоречивый факт действия некоторых государственных структур (прямо или косвенно) в интересах Церкви.
Также стоит обратить внимание на статью знаменитого богослова прот. Иоанна Мейендорфа «О путях Русской Церкви» [Мейендорф, 1981]. Автор анализирует позицию руководства РПЦ, фактически примирившегося с ходом «хрущевских гонений». Отец Иоанн считает, что цель антирелигиозной кампании изначально была обречена, так как закрытие приходов и ослабление социально-экономического положения РПЦ не вело к уменьшению религиозности среди населения. По большей части религиозность уходила в социальное подполье. Более интенсивные репрессивные меры могли привести лишь к увеличению не зарегистрированных религиозных общин, которые аппарат государственной власти фактически не мог контролировать [Мейендорф, 1981, 176]. Об этом свидетельствовали открытые воззвания церковных диссидентов.
Эмигрантская литература рассматривала работу институций Совета по делам РПЦ и Совета по делам религий сквозь историческую призму государственного влияния на Церковь посредством дореволюционного Св. Синода. Вероисповедная политика советского режима в отношении Русской Церкви оценивалась однозначно как репрессивное администрирование, а Церковь в описанных условиях воспринимали как трагическую жертву государственного гнета безбожного режима. Стоит отметить по большей части негативное отношение эмигрантской общины к действиям священноначалия РПЦ в указанный период времени. Но за редким исключением подобные оценки объясняются церковно-политической ангажированностью. В большинстве случаев оценочные суждения превалировали над нейтральным характером объективного исторического анализа. Тем не менее, хотя эмигрантскую и диссидентскую литературу можно уличить в определенной степени исторического субъективизма и оценочной категоричности, она дала мощный исследовательский толчок для современных отечественных ученых. Этот пласт литературы был неподконтролен советской атеистической идеологии.
Советская послевоенная историография:
отражение вероисповедной политики Н. С. Хрущева
Довоенная советская историография в отношении истории РПЦ отличалась двумя фундаментальными признаками: ограничение в доступе к документальным материалам, связанным с вероисповедной политикой, и официальная атеистическая идеология советского государства, искажающая объективный взгляд на историю церковногосударственных отношений. Советская историография послевоенного периода существенным образом оживилась, особенно после ХХ съезда КПСС. Можно даже говорить о качественном сдвиге с точки зрения методологии. Систематизация накопившегося материала открывала новые проблемные поля, расширяла тематические границы исследований. Советская историография встала на путь отказа от методологического примитивизма довоенной пропагандистской литературы относительно проблемы церковно-государственных отношений. Перед глазами советских историков начала открываться вся сложность взаимодействия государства и религии. Несмотря на то, что это были работы сугубо атеистической направленности, они уже подкреплялись глубоким научным анализом, а не пропагандистским критиканством. Впервые исследователи коснулись такой проблемы, как вероисповедная политика государства, деятельность законодательных и исполнительных органов советской власти в отношении религиозных организаций. Методология и научный подход углублялись, хотя оценочные суждения в отношении РПЦ как чужеродной советскому обществу институции оставались неизменными. Исторические труды указанного периода не использовали документальные материалы закрытых архивов, поэтому они вторили общим схемам и выводам предыдущих работ. Большинство монографий искажало историю РПЦ и крайне тенденциозно оценивало характер государственноцерковных отношений. Отсутствие доступа к документальным материалам не просто вело к фактологическим ошибкам и гипотетическим заключениям, но кардинальным способом сказывалось на исторических оценках. Лишь на основании засекреченных архивных данных можно было подтвердить многочисленные факты репрессивной политики советского государства в отношении РПЦ. Поэтому посредством процесса введения в научный оборот новых документальных материалов идеологизированная советская историография стала подвергаться жесткой критике.
Важнейшим источником, проливающим свет на подоплеку «хрущевских гонений», является сборник «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», в котором приведены наиболее значимые законы, принятые правительством СССР за всю его историю. «Хрущевские» гонения на Церковь отражены в VIII–IX тт. этого сборника, где напечатаны постановления о начале преследований верующих людей и ходе этих репрессий, которые в завуалированном виде называются «борьбой с пережитками» или «повышением сознательности трудящихся» [КПСС, 1986, 491]. Вместе с тем даже в этих официальных документах можно встретить объективную информацию. Так, когда представители власти отчитывались о своих «успехах» в борьбе с религией и обещали вскоре окончательно уничтожить религиозность в советском обществе, становилось понятно, что Церковь преследуется преимущественно с помощью насилия [КПСС, 1985, 446–451]. В одном из постановлений ЦК КПСС за 1958 г. признается, что борьба с Церковью ведется во многом неправильно, слишком грубо, почти полностью насильственными методами, что антирелигиозная пропаганда, на которую предполагалось сделать ставку, оказалась неэффективной. В результате репрессии отнюдь не привели безбожную власть к победе над Церковью [КПСС, 1986, 251]. В советской историографии тема антирелигиозной кампании 1958–1964 гг. подвергалась рассмотрению не с научных позиций, но с точки зрения политической целесообразности и сообразуясь с практическими потребностями органов власти. Обращение к данной проблематике зачастую стимулировалось потребностями партийных и государственных органов в «разоблачении попов», в проведении антирелигиозной пропаганды.
Работы советских пропагандистских авторов 1970-1980-х гг. пытались продемонстрировать благостную картину церковно-государственных отношений и отсутствие нарушений закона о свободе совести в отношении РПЦ. После принятия Конституции СССР 1977 г. возник научный интерес к теме вероисповедной политики и правового регулирования религиозных объединений. Результатом этого исследовательского интереса стала публикация нескольких работ, общим свойством которых было снижение пропагандистского атеистического накала и поиск конструктивного диалога с религиозными конфессиями: труд В. А. Куроедова «Религия и церковь в советском обществе» [Куроедов, 1984] и монографии Н. С. Гордиенко [Гордиенко, 1984а; Гордиенко, 1984б; Гордиенко, 1987]. Стоит отметить другое объединяющее идейное качество данных работ: рефлексия относительно возможной адаптации религий в советском социуме.
Переломным моментом в качественном изменении историографии стала кардинальная смена политического климата в стране. Высшее руководство советского государства во главе с М. С. Горбачевым решило существенным образом скорректировать вероисповедную политику. В апреле 1988 г. состоялась знаменательная встреча генсека ЦК КПСС со Святейшим Патриархом Пименом, которая стала точкой отсчета начавшихся перемен в церковно-государственных отношениях. С этого момента эпоха гонений на РПЦ была завершена. Положительные изменения коснулись всех аспектов церковно-государственных отношений. Произошел слом стереотипов и в академической науке. Первым проявлением пересмотра принципов историографии государственно-церковных отношений стал юбилейный сборник «Русское православие: вехи истории» (посвящен празднику 1000-летия Крещения Руси), в котором антирелигиозная кампания Н. С. Хрущева оценивается негативно. Роль РПЦ в горбачевском проекте «перестройки социалистического общества», напротив, рассматривается в положительном свете [Русское православие, 1989, 699–701]. В представленном сборнике ощутимо движение в сторону научной объективизации исторического прошлого. Религиоведческий сборник «На пути к свободе совести» [На пути к свободе совести, 1989] уже насыщен новыми историческими интерпретациями, которые были невозможны в классической советской историографии. К примеру, причины гонений на РПЦ авторы видят не в пресловутой «контрреволюционности», а в политическом волюнтаризме и мировоззренческой нетерпимости высшего руководства коммунистической партии.
В целом советская историография довольно поверхностно отнеслась к теме церковно-государственных отношений периода «хрущевской» антирелигиозной кампании 1958-1964гг. Сама вероисповедная политика советской власти не была отдельным предметом исторических исследований. Для такого игнорирования было несколько объективных причин: «идеологические установки советского времени; скудность событий послевоенного времени по сравнению с 1920-30-ми гг.; ограниченность источниковой базы; „аберрация близости“, мешающая адекватно осмысливать недавно происшедшие события, процессы и явления» [Горбатов, 2011, 10–12].
К этому историческому моменту возникла объективная необходимость в ревизии прошлого государственно-церковных отношений. Фундаментальные изъяны советской историографии требовали немедленного исправления, ведь только на объективном изложении истории можно обеспечить нормализацию государственноцерковных отношений (одна из характеристик подлинно демократического общества). Начиная с конца 1980-х гг. историография, посвященная церковно-государственным отношениям в СССР, кардинальным образом изменилась по причине постепенного ослабления государственного идеологического аппарата (горбачёвская «гласность») и открытия множества засекреченных архивов, связанных с вероисповедной политикой. Исследователи получали доступ к огромному массиву ранее недоступных материалов и могли давать исторические оценки без идеологической цензуры. Следует напомнить, что своей публикации ждут еще многие документальные материалы, поэтому исследование церковно-государственных отношений требует новых усилий. Тверская исследовательница Т. Г. Леонтьева считает, что на рубеже 1980–90-х гг. произошла некая неформальная реабилитация РПЦ в светской академической среде. Столкнувшись с неопровержимыми свидетельствами из рассекреченных архивов, секулярное историческое сообщество наконец увидело в коммунистическом режиме истинного виновника церковно-государственного конфликта. Религия в целом, да и РПЦ в частности, теперь рассматривались как «жертва большевистского социального эксперимента» [Леонтьева, 2003, 203]. Такое концептуальное решение в дальнейшем оказало влияние на выбор объектов изучения, предопределило многие исторические оценки и заключения.
Итак, советская историография проблематики истории РПЦ и церковногосударственных отношений «хрущевской» антирелигиозной кампании 1958– 1964 гг. отличалась методологической однобокостью, узостью источниковой базы, игнорированием разработок зарубежных исследований, идеологическими пристрастиями авторов, в конечном итоге — искажением научной объективности. Советская историография не затрагивала темы регулирования государством взаимоотношений с РПЦ, фактически не изучала деятельность органов советской власти, ответственных за планирование и осуществление вероисповедной политики государства, не интересовалась вопросом внутрипартийной борьбы отдельных группировок относительно выработки антирелигиозной стратегии.
Работы церковных историков и публицистов 1990–2000-х гг.: исторический анализ «хрущевских гонений»
В конце 80-х — начале 90-х гг. в связи с изменением законодательства в отношении религиозных организаций и повсеместным открытием духовных учебных заведений в РПЦ наконец появились условия для научно-исследовательской деятельности духовенства. Довольно быстро в свет стали выходить сборники документальных материалов, воспоминания, учебные пособия по новейшей истории РПЦ, научные статьи и монографии. С начала 90-х гг. повсеместным явлением стала защита представителями РПЦ диссертаций, темой которых были церковно-государственные отношения в XX в.
Настольной книгой для многих церковных историков 90-х гг. стал двухтомный сборник документальных материалов по новейшей истории РПЦ, изданный немецкими учеными Г. Штриккером и Р. Реслером [Штриккер, 1995]. Сборник включает в себя сокращенный вариант «Открытого письма Патриарху Алексию» столичных клириков о. Николая Эшлимана и о. Глеба Якунина. Также сюда были включены решения Архиерейского Собора 18 июля 1961 г., утвердившего реформу приходского управления. Исторический анализ взаимоотношений государства, Церкви и общества содержится в комментариях к отдельным разделам сборника [Штриккер, 1995, 25]. Общая оценка «хрущевских гонений» такова: после отставки Н. С. Хрущева ни о каком изменении политического курса в отношении РПЦ говорить нельзя, поскольку при новом руководителе партии и государства не было осуждено или отменено ни одно репрессивное мероприятие или решение предшествующего правления [Штриккер, 1995, 50–51].
С 1990-х гг. начали появляться самостоятельные работы представителей духовных школ, посвященные исследованию антирелигиозной кампании Н. С. Хрущева. В 1993 г. в «Журнале Московской Патриархии» (далее — ЖМП) издана статья «Русская Православная Церковь в период с 1943 по 1970 год» за авторством минского священника о. Сергия Гордуна [Гордун, 1993]. Используя делопроизводственные материалы Совета по делам религий при Совмине СССР, причем некоторые из них были впервые введены в научный оборот, о. Сергий дает характеристику событиям 1958–1964 гг. как периоду «крайнего стеснения церковной жизни» [Гордун, 1993, 22]. Для автора сильнейшим ударом по РПЦ в период «хрущевской» антирелигиозной кампании видится приходская реформа 1961 г., повсеместно ослабившая значение духовенства и церковных институций. Автор искал примеры мужественного сопротивления иерархов, клириков, мирян репрессивной политике советской власти.
Далее стоит отметить публикацию «Самодержавие духа. Очерки русского самосознания» за авторством митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева) [Иоанн Снычев, 1995]. Одна из глав этой книги посвящена описанию «хрущевской» антирелигиозной кампании и анализу церковно-государственных отношений того времени. Для владыки Иоанна, как автора консервативного толка, сущность «хрущевских» репрессий в отношении религий заключалась в общей политической линии отказа от национально-патриотического элемента в советской идеологии, присущей периоду «оттепели» [Иоанн Снычев, 1995, 323]. Автор отмечает административное коварство «хрущевских гонений», когда ответственность за ликвидацию приходов и закрытие церквей перекладывалась на епископат и епархиальные органы, находившиеся под давлением региональных уполномоченных по делам РПЦ [Иоанн Снычев, 1995, 326]. Также владыка Иоанн отмечал многочисленные случаи административного давления со стороны местных властей на простых советских граждан по идеологическим мотивам.
Другим важным источником о «хрущевских гонениях» является работа видного церковного иерарха архиеп. Михаила (Мудьюгина) под названием «Русская Православная Церковность. Вторая половина XX века», опубликованная в 1995 г. [Михаил Мудьюгин, 1995]. Ценность данного сочинения заключается в том, что его автор сам являлся современником описываемых событий и ревностно защищал Церковь от гонителей. Свое сочинение архиеп. Михаил создал на основе личных воспоминаний. Ему удалось нарисовать незабываемые портреты важнейших церковных деятелей данного периода, а также передать атмосферу жизни в СССР. Владыка Михаил с прискорбием упоминает о закрытии 5 из 8 духовных семинарий, что в дальнейшем негативно сказалось на среднем уровне образования среди клириков РПЦ: многие из будущих ставленников просто не могли получить систематического духовного образования. Описанию самих гонений посвящена значительная часть работы. Положительным качеством сочинения является непредвзятое описание событий. Автор далек от лубочно-сусальной характеристики Церкви. Наоборот, он признает, что у церковного сообщества были и серьезные недостатки, слабые места, по которым в первую очередь и наносили удары гонители. Архиепископ Михаил излагает дальнейшую историю Церкви, которая сумела преодолеть и эти гонения [Михаил Мудьюгин, 1995, 73–76].
Коллективная монография «История Русской Православной Церкви» [Данилуш-кин, 1997], опубликованная в 1997 г. и официально рекомендованная как учебное пособие по истории РПЦ ХХ в. в духовных учебных заведениях, представляет по обозначенной теме главу «Русская Православная Церковь в 1958–1970 годах» (автор — М. В. Шкаровский). В данной главе центральное место занимают внешнеполитическая деятельность РПЦ и внутрицерковные изменения, происходившие в ходе «хрущевской» антирелигиозной кампании.
В 1990-е гг. выходило много общих и обзорных работ, которые иногда касались тематики «хрущевской» антирелигиозной кампании. К примеру, монографическое исследование «Церковь и государство» за авторством о. Алексия Николина [Николин, 1997] посвящено обширной области — нормативно-правовым аспектам церковногосударственных отношений в историческом контексте. Священник Алексей Николин специально останавливается на характеристике «хрущевских гонений», которые реализовывались в том числе и по причине субъективного правоприменения, пристрастного толкования советского законодательства о культах. Буква закона, таким образом, искажалась идеологическими воззрениями Н. С. Хрущева как главы советского государства (см.: [Николин, 1997, 176]).
Наконец обратимся к главному учебному пособию по новейшей истории РПЦ для духовных школ — «Истории Русской Церкви. Книга девятая: История Русской Церкви. 1917–1997» за авторством прот. Владислава Цыпина [Цыпин, 1997]. Теме «хрущевских гонений» посвящена большая часть VIII главы «Русская Православная Церковь при Святейшем Патриархе Алексее (Симанском). 1944–1970 годы». Причины антирелигиозной кампании 1958-1964гг. автор видит во внутриполитической целесообразности коммунистического режима, осуществлявшего идеологическую борьбу с религией, и в личных амбициях Н. С. Хрущева, «главного стратега и вдохновителя атеистической кампании» [Цыпин, 1997, 379, 408], тем самым пытавшегося получить широкомасштабную поддержку рядовых членов коммунистической партии. Отец Владислав сосредотачивает свое внимание на фактах сопротивления иерархов, клириков, прихожан РПЦ ходу антирелигиозной кампании. В свою очередь о. В. Цыпин резко критикует феномен «церковного диссидентства». «Открытые письма» клириков РПЦ, по мнению прот. В. Цыпина, оказывали негативное влияние на репутацию РПЦ среди верующих и снижали уровень доверия к Церкви, «служили для верующих соблазном» [Цыпин, 1997, 412]. Отец Владислав считает, что в конечном итоге государство проведением антирелигиозной кампании не достигло поставленных целей, так как «верующий народ остался с Церковью, отшатнулись лишь неверующие». Также автор считает, что со сменой Н. С. Хрущева антирелигиозный курс государственный власти не был изменен, однако цель строительства «безрелигиозного социалистического общества» стала рассматриваться как факт не ближайшего будущего [Цыпин, 1997, 408].
Со стороны Церкви также имеется немало источников, среди которых в первую очередь следует назвать письма патр. Алексия I в Совет по делам РПЦ, с 1965 г. переименованного в Совет по делам религий [Письма патриарха Алексия I, 2010]. Данная переписка содержит ценнейшие материалы о ходе гонений, о взаимоотношениях высшей светской и церковной власти. Из знакомства с этим источником становится очевидно, что патр. Алексий I прилагал все усилия для защиты Церкви от гонений, что именно благодаря его усилиям удалось в какой-то мере смягчить эти репрессии. Наконец, перед читателем встает обширная панорама гонений, поскольку в письмах приводятся данные о конкретных гонениях на епархиальном уровне [Письма патриарха Алексия I, 2010, 35–43]. Вместе с тем в данном сборнике приведены сведения о взаимоотношениях иерархов Церкви и советских чиновников. Интересно отметить, что, согласно приведенным здесь документам, на местах далеко не все советские руководители горели желанием бороться с религией. Они активизировали свою деятельность только в том случае, если получали прямой приказ от Хрущева и его ближайших помощников. Более того, даже тогда они зачастую лишь имитировали гонения. Объяснить это можно как скрытой религиозностью части советских чиновников, так и материальным фактором. Дело в том, что церковное сообщество, начиная от архиереев и заканчивая простыми христианами, в это время постоянно давало представителям власти, по сути дела, взятки, представлявшие собой как прямые денежные подношения, так и различные подарки. Таким образом, советские чиновники не были заинтересованы в гонениях, что способствовало сохранению РПЦ [Письма патриарха Алексия I, 2010, 293].
О борьбе с гонениями одного из виднейших иерархов Русской Церкви митр. Никодима (Ротова) повествуют документы, собранные в посвященном ему труде архим. Августина (Никитина). Автор-составитель привел обширную подборку как документов, так и воспоминаний современников гонений, основное внимание уделив защите Церкви митр. Никодимом (Ротовым) [Августин Никитин, 2008].
Большое внимание «хрущевским гонениям» уделено в коллективной монографии «Русская Православная Церковь. XX век», авторами которой является группа православных историков. Этот труд создан по благословению Святейшего патриарха Алексия II и опубликован в 2008 г. В данной работе гонениям на Церковь в годы правления Хрущева посвящен целый раздел, в котором рассказано о подоплеке гонений, их важнейших этапах. Большую ценность представляет описание чувств и мыслей, волновавших церковное сообщество того времени. Достоинством работы является широкое использование источников как Церкви, так и безбожной власти, изложены биографии видных церковных деятелей того времени [Русская Православная Церковь, 2008].
В конце ХХ — начале XXI в. историография пополняется региональными исследованиями истории отдельных епархий в советский период. Данные исследования, а именно исторические монографии, дают возможность проанализировать особенности функционирования специальных административно-регулирующих и контрольно-репрессивных органов, осуществлявших государственную вероисповедную политику на региональном уровне в период «хрущевских гонений». Особенно следует выделить здесь деятельность ПСТГУ, который в своих периодических изданиях немалую роль отводит теме антирелигиозной репрессивной политики советского государства. Большая часть церковно-исторических материалов в «Вестнике ПСТГУ» имеет региональный характер.
Постсоветская научная историография: переосмысление церковно-государственных взаимоотношений в период антирелигиозной кампании 1958–1964 гг.
Политические изменения начала 1990-х гг., крах коммунистического режима СССР, развитие демократических институтов в новообразованной РФ привели к демократизации системы образования и научно-исследовательской деятельности. Секретные государственные архивы стали доступны широкой общественности. Наступил новый этап становления отечественной историографии, «археографический взрыв», способствовавший доскональному изучению феномена религиозности в стране. Возобновился интерес исследователей к проблематике церковногосударственных отношений в СССР в XX столетии. Ряд научных работ по указанной тематике сформировал солидную историографическую базу по вероисповедной проблематике. Литература постсоветского периода, появившаяся в начале 1990-х гг., характеризуется как начало серьезного научного исследования государственноцерковных отношений 1950–60-х гг. Для этого времени можно отметить работы В. А. Алексеева, М. И. Одинцова, О. В. Васильевой, А. Н. Кашеварова, Т. А. Чумачен-ко, М. В. Шкаровского. Данные светские авторы, в целом симпатизирующие драматическому образу Церкви в эпоху тоталитаризма, декларируют отход от односторонних оценок церковно-государственных взаимоотношений в советский период. C 1990-х гг. историческое сообщество на основании новых материалов обращается к политической деятельности коммунистической партии как основного инициатора репрессивной вероисповедной политики советского государства.
Московский историк, бывший работник Совета по делам религий, доктор исторических наук М. И. Одинцов был одним из первых, кто призвал к ревизии советской историографии в области государственно-церковных отношений. М. И. Одинцовым на протяжении 1990-х гг. было издано около 100 научных работ, посвященных истории взаимоотношений Церкви и коммунистического государства в XX в. Им же введено в научный оборот множество неизвестных ранее источников. Он же наметил новые пути исследования истории взаимодействия советской власти и РПЦ. М. И. Одинцов опубликовал в «Отечественных архивах» целый ряд статей, в которых попытался проанализировать процесс изменения взаимоотношений Церкви и государства в 50–60-е гг. [Одинцов, 1991; Одинцов, 1994а; Одинцов, 1994б; Одинцов, 1995; Одинцов, 1996; Одинцов, 2002; Одинцов, 2003]. Из этого ряда стоит выделить программную работу «Хождение по мукам. 1954-1960 годы» [Одинцов, 1991], ставшую первым историческим анализом «хрущевской» антирелигиозной кампании. Статья предлагает читателям ценные статистические свидетельства (в частности, число зарегистрированных приходов в СССР), ранее недоступные общественности. М. И. Одинцов трактует причину начала «хрущевских гонений» ревизией послевоенного курса «уступок Церкви», обличенного партийными идеологами как «проявление сталинизма» [Одинцов, 1991, 3]. Такая интерпретация в дальнейшем использовалась многими исследователями.
М. И. Одинцов построил периодизацию государственно-церковных отношений, проследив некую эволюцию этого аспекта на протяжении всей истории СССР. Изменения государственно-церковных отношений, по мнению исследователя, коррелировали со сменой моделей вероисповедной политики советского государства. М. И. Одинцов увидел, что разрешением загадки правового и политического положения РПЦ в означенный период является деятельность партийных органов и профильного отдела при Совмине СССР, ответственного за вероисповедную политику (Совет по делам РПЦ). Работы М. И. Одинцова основаны на документах и материалах, хранящихся в государственных архивных фондах, большая часть из которых введена им в научный оборот впервые. В исследованиях М. И. Одинцова дана целостная картина государственно-церковных отношений, в которых выделены и охарактеризованы теоретико-идеологические и правовые особенности. М. И. Одинцов ввел понятие для послевоенной вероисповедной политики, когда административное давление со стороны государства несколько ослабло, — «атеизм с элементами веротерпимости». Такая стратегия предполагала некий социальный компромисс государства с религиозными объединениями, подразумевавший определенный формат сотрудничества советской власти и Церкви. Во-первых, религию пытались ассимилировать и интегрировать в рамках «строительства социалистического общества». Во-вторых, на внешнее перемирие с государством и снижение интенсивности репрессивного администрирования религиозные организации должны были ответить внешнеполитической активностью в пользу советского режима, а именно поддержкой антивоенной деятельности. Такой государственно-церковный конкордат советская пропаганда использовала, подчеркивая конституционное право на свободу совести, демонстрируя социальное положение советских верующих в более выгодном свете в сравнении с христианами капиталистических стран [Одинцов, 1991, 2].
В. А. Алексеев [Алексеев, 1991; Алексеев, 1992] на рубеже 1980–1990-х гг. одним из первых взялся за пересмотр интерпретаций советской историографией тематики государственно-церковных отношений в первое советское десятилетие: «прежняя картина церковно-государственных отношений, мягко говоря, страдала неточностями, искажениями» [Алексеев, 1991, 202]. В. А. Алексеев в своих статьях на основании статистических данных давал комплексную характеристику религиозной политики советской власти. Исследователь, опираясь на ранее не публиковавшиеся архивные данные, прослеживает становление репрессивной политики советского государства относительно религиозных организаций: массовое закрытие культовых зданий, репрессии против духовенства и верующих. Его монографии — это взгляд на историю церковно-государственных отношений изнутри правительственной машины, поэтому все внутриполитические процессы изучены в них глубоко и точно. Хотя считаю, что в данном случае он несколько идеализирует эти отношения.
Монография В. А. Алексеева «Иллюзии и догмы» [Алексеев, 1991] посвящена вероисповедной политике советской власти с момента Октябрьской революции вплоть до 1960-х гг. Данная работа представляет собой историософскую рефлексию над проблемой конфронтации коммунистического режима и русского православия. «Хрущевские гонения» объясняются автором через атеистическую и идеологическую инерционность сознания партийной номенклатуры, не увидевшей положительную роль РПЦ во время Великой Отечественной войны. Стоит выделить особый методологический момент, четко прослеживающий корреляцию изменений политического контекста с правовым положением религиозных организаций. Смена общего курса социальной политики советской власти существенно сказывалась на существовании религиозных общин в СССР. Автор уделяет внимание внутрипартийной оппозиции господствующей антирелигиозной стратегии советской власти. Другое исследование В. А. Алексеева — «„Штурм небес“ отменяется?», конспективно отражает основные этапы репрессивной политики советского государства в отношении религиозных образований (от октября 1917 г. до Брежнева), отмечает ключевую роль СМИ и массовых общественных организаций в антирелигиозных кампаниях [Алексеев, 1992, 71–72]. Религиозный плюрализм не вписывался в комплекс ценностей советского государства. Ужесточение и унификация экономической политики, насаждение плановой экономики, надвигающийся тоталитаризм социального пространства вели к жесточайшему регулированию и контролю духовной жизни, что оборачивалось фактическим уничтожением традиционных деноминаций. В ряду монографий 1990-х гг. исследования В. А. Алексеева являются наиболее успешными с точки зрения широты охвата поставленных проблем, ввода в научный оборот ранее неизвестных фактов на основе новых источников.
Прорывным можно назвать свежий подход к историографии государственноцерковных отношений в диссертационной работе «Советское государство и деятельность русской православной церкви в период Великой Отечественной войны» за авторством О. Ю. Васильевой [Васильева, 1990]. Автор впервые вводит в научный оборот периодизацию на основании анализа государственно-церковных отношений. О. В. Васильева представляет ретроспективную картину вероисповедной политики советской власти, озвучивает основные проблемы государственно-церковных отношений и дает оценки, которые существенным образом отличаются от «партийного подхода» советской историографии. Жесткий приговор антирелигиозной политике большевиков дает О. В. Васильева в своей монографии «Красные конкистадоры» (написана в соавторстве с П. Н. Кнышевским) [Васильева, Кнышевский, 1994]. О. В. Васильева оценивает план и реализацию антирелигиозных акций большевиков (к примеру, кампании по изъятию ценностей) как «самое грубое насилие над умами и душами людей», которое невозможно оправдать и самыми благородными мотивами голода или борьбы за справедливость. Большое значение имеет труд О. Ю. Васильевой «Русская Православная Церковь и II Ватиканский собор», в котором приведено большое количество свидетельств очевидцев гонений, в том числе иерархов, простых верующих людей, представителей Западных Церквей, а также руководителей Советского Союза. Приведенные автором документы проливают свет на то, каким образом Церковь защищалась от гонений (см., напр.: [Васильева, 2004, 44–45]). Автор считает, что «хрущевская» антирелигиозная кампания была вызвана тем, что политика «нормализации Церкви» рассматривалась как часть сталинского наследия, несовместимого с идеологией коммунистического строительства.
Другой важнейший монографией 1990-х гг. стал исследовательский труд «Государство, православная церковь, верующие. 1941-1961 гг.» за авторством Т. А. Чума-ченко [Чумаченко, 1999]. Монография была создана на базе переработки кандидатской диссертации, защищенной автором в 1994 г. [Чумаченко, 1994]. Т. А. Чумаченко была одним из пионеров изучения церковно-государственных отношений в период «хрущевской» антирелигиозной кампании 1958-1964гг. В дальнейшем Т.А. Чума-ченко развивала данную тему и защитила докторскую диссертацию на тему «Совет по делам Русской православной церкви при СНК (СМ) СССР. 1943–1965 гг.» [Одинцов, Чумаченко, 2013]. Основное внимание исследовательница сосредоточила на анализе государственной институции Совета по делам РПЦ. Т. А. Чумаченко предложила собственную формулировку отношений государства и Церкви — «это совокупность исторически складывающихся и изменяющихся форм взаимосвязей между институтами государства и институциональными религиозными образованиями (религиозными объединениями, религиозными партиями, религиозными движениями, международными конфессиональными центрами), одна из составных частей внутренней и внешней политики государства».
Автор соглашается с общей интерпретацией «хрущевских гонений» как следствия перемены идеологического курса коммунистической партии, пытавшейся избавиться от религии в образе идеологического врага. Коммунистической партией была поставлена задача построения «социалистического общества», религия же являлась идеологически чуждым феноменом, мешающим достижению целей. В действительности идейным вдохновителем и инициатором развязавшейся антирелигиозной кампании был Отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС; в свою очередь, Совет по делам РПЦ при Совмине СССР осуществлял лишь функцию послушного исполнителя [Чума-ченко, 1999, 180–181]. Т. А. Чумаченко пытается углубиться в процессы и объяснить бюрократическую механику действий советской власти в период антирелигиозной кампании. К примеру, важную роль в усилении административного давления на РПЦ сыграла новая генерация аппаратчиков Совета по делам РПЦ при Совмине СССР. Новый руководитель Совета по делам РПЦ В. А. Куроедов жесткое административное регулирование превратил «в политическую войну» [Чумаченко, 1999, 221].
Сложный процесс государственно-церковных отношений в 50–60-х годах широко и основательно исследован также доктором исторических наук М. В. Шкаровским на материалах многочисленных отечественных и зарубежных архивов [Шкаровский, 1996; Шкаровский, 1999; Шкаровский, 2010]. Его книга «Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве» [Шкаровский, 1999] — автор использовал при ее написании данные 60 архивных фондов — является одной из первых в отечественной историографии попыток представить перед читателем обобщенную картину церковногосударственных отношений в СССР в период Н. С. Хрущева. Автор характеризует события 1958–1964 гг. как «трагический период последних попыток руководства СССР радикально, в кратчайшие сроки решить религиозную проблему в стране» [Шкаров-ский, 1999, 359, 392].
М. В. Шкаровский рассматривает многие ранее не затронутые исследователями аспекты российской церковной истории новейшего времени. Он использует обширный корпус источников, в числе которых много ранее недоступных архивных материалов, впервые вводимых в научный оборот. Автор глубоко и всесторонне исследует события в Ленинграде и Ленинградской области, что дает возможность соотнести происходящее в иных регионах с осуществлением религиозной политики в северной цитадели государственности, «колыбели пролетарской революции». В целом работы М. В. Шкаровского отличаются новизной привлекаемого источникового материала, а также новыми нестандартными подходами, нестереотипными оценками. «Хрущевские гонения» освещены в монографии подробно, описаны их причины, ход гонений, отставка Хрущева. Автор делает вывод относительно статуса гонений на Церковь в СССР: они не прекращались вплоть до крушения советского режима, разнилась лишь интенсивность преследований Церкви [Шкаровский, 2010, 370–373]. Более того, автор уточняет, что усиление репрессивной политики государства могло коррелировать с переломными этапами государственной истории: вероисповедная политика советского режима была частью ее внутренней политики [Шкаровский, 1999, 8]. В частности, два тотальных наступления советского режима на РПЦ, в 30-е гг. и в конце 50-х гг., были связаны с важнейшими периодами индустриализации в СССР.
Авторский подход М. В. Шкаровского отличается комплексным определением факторов, повлиявших на антирелигиозную политику «хрущевских гонений». М. В. Шка-ровский отметил следующие направления антицерковной кампании 1958–1964 гг.: социально-экономическое давление на епархиальные и приходские структуры, закрытие духовных семинарий, правовые изменения в приходском управлении, запрет на участие в богослужениях некоторым категориям советских граждан. М. В. Шкаров-ский проследил изменения нормативно-правовой базы в отношении религиозных организаций, что сказалось на социально-экономическом положении РПЦ. Далее автором был выявлен комплекс пропагандистских мер советской власти, направленных на укрепление атеистического характера советского общества: в частности, одним из действенных шагов коммунистического режима стало введение гражданской обрядности. М. В. Шкаровский проследил череду внутрицерковных и институциональных изменений в Русской Церкви (в частности, приходскую реформу 1961 г.). Исследователь подчеркивает, что применявшиеся и ранее административные меры дополнились в изучаемый период принципиально новой политикой разложения Церкви изнутри: «впервые начала осуществляться целенаправленная массовая кадровая селекция духовенства, происходило вмешательство в богослужебную практику, попрание канонических принципов церковной жизни» [Шкаровский, 1999, 10–11]. Тем не менее автор вторит выводам Д. Поспеловского о тяжести, но безрезультатности «хрущевской» антирелигиозной кампании [Шкаровский, 1999, 390]. Стоит отметить, что работа М. В. Шкаровского стала тем эталонным исследованием, с которым сверялось большинство диссертантов последних двух десятилетий, кто брался за тематику антирелигиозной кампании Н. С. Хрущева.
С нулевых годов среди исследований стали появляться диссертации, анализирующие факт антицерковной кампании 1958-1964гг. с точки зрения целостной вероисповедной политики советского атеистического режима. Диссертация на соискание докторской степени «Эволюция вероисповедной политики советского государства и деятельности Русской Православной Церкви (1953-1991 гг.)» за авторством И. И. Масловой [Маслова, 2005] представляет историко-правовую корреляцию ведущих идеологических установок коммунистической партии и стратегии правоприменения законодательства о религиозных культах в каждый период исторического бытия СССР [Маслова, 2005, 465]. По мнению автора, идеологическое направление, в котором двигалась партийная номенклатура советского государства, определяла в том числе и характер церковно-государственных взаимоотношений.
Еще ранние эмигрантские историографы считали, что антирелигиозная политика большевистской власти в формате систематизированных репрессий начала проявляться сразу же после Октябрьской революции. Впоследствии такое мнение станет непререкаемой аксиомой в том числе и в среде церковных историков. Однако это утверждение довольно рано стало объектом критики со стороны историков, опирающихся на документальные свидетельства. Теперь выясняется, что вероисповедная политика советской власти формировалась постепенно и вызревала как целостная стратегия довольно долго. Более того, со временем вероисповедная политика менялась, то облегчая, то усиливая административное давление на религиозные структуры.
Исследователи 1990-х гг. выработали основные подходы к хронологии и характеристике российской вероисповедной политики. В данном исследовании были проанализированы наиболее значимые работы российских историков, систематизировавших историю государственно-церковных отношений в СССР в период 1958–1964 гг. С середины 1990-х гг. пробуждается интерес к истории церковногосударственных отношений в СССР. Провозглашение гласности, плюрализма мнений, отказ от жесткой антирелигиозной пропаганды стали толчком для «духовного пробуждения». Для исследователей возникла возможность переосмысления истории с точки зрения новой идеологической парадигмы, возможность новой трактовки устоявшихся фактов и введения в научный оборот новых источников. Начиная с 1990-х гг. отечественными исследователями были защищены десятки диссертаций по истории церковно-государственных отношений в СССР. Однако профессионально занимаются указанной тематикой по сей день лишь немногие. Но именно в 1990-е гг. были заложены теоретические и методологические предпосылки для современных исследований в области церковно-государственных отношений в СССР периода «хрущевских гонений».
Заключение
В настоящее время изучение положения РПЦ в период «хрущевских гонений» (1958-1964) является одним из магистральных направлений современной историографии. Интерес историков сосредоточен на анализе церковно-государственных отношений в означенный период, также интенции исследователей направлены на выявление особенностей вероисповедной политики и роли партийной номенклатуры в создании антирелигиозной стратегии. Историография антирелигиозной кампании Н. С. Хрущева крайне многообразна и зависит от многих факторов: степени доступности документальных материалов архивов, конфессиональных предпочтений авторов, различия методологических подходов в историческом анализе, использования разного категориального аппарата, фиксации исследовательского интереса на разных сторонах репрессивной политики и пр.
Тема вероисповедной политики советского государства в отношении РПЦ в период 1958–1964 гг. имеет пространную историографию. Таковую можно условно поделить на два этапа: советский и постсоветский. В период с 1960-х по 1980-е гг. теме антирелигиозной кампании было посвящено много работ за авторством эмигрантских и диссидентских церковных деятелей. Недостатком указанных трудов являлось отсутствие доступа к документальным материалам, публицистический и эмоциональный посыл написанного. Советская историография страдала идеологизированным характером и не могла полноценно претендовать на научность. Советская историческая наука игнорировала тему антирелигиозной вероисповедной политики коммунистического режима, считая, что текущее законодательство о религиозных культах властью не нарушалось.
Тридцатилетний период существования научной историографии на территории РФ дал обильные плоды. Современная историография характеризуется разнообразием подходов к изучению истории Русской Церкви в СССР 1950-1960-х гг. и широкой проблематикой исследований, включающей церковно-государственные отношения и эволюцию государственной религиозной политики, изменение правового статуса служителей культа и религиозных организаций, анализ деятельности Совета по делам РПЦ, планирование и реализацию советской антирелигиозной агитации и пропаганды. Таким образом, советская вероисповедная политика и внутренние процессы в РПЦ становятся в полной мере объектом научного анализа.
Первые работы постсоветской историографии, появившиеся в начале 1990-х гг., носили скорее обзорный характер, их авторы задавались общими вопросами периодизации церковно-государственных взаимоотношений, анализом механизмов воздействия государственной власти на жизнь православных христиан. Историки 1990-х гг. пытались найти причины возобновления антирелигиозной политики в 1958–1964 гг. Также оценивалась роль РПЦ во внешнеполитических контактах советского правительства, анализировалась антирелигиозная пропаганда, инициированная коммунистической партией.
С начала нулевых и по сей день в области изучения «хрущевской» антицерков-ной кампании господствующим является тренд на региональные исследования. Проблематика церковно-государственных отношений времен «оттепели» приобретает локальный характер. Исследователи на основании архивных материалов изучают, как вероисповедная политика Н. С. Хрущева реализовывалась на местах, в регионах. Исследовательский интерес фокусируется на действиях местных уполномоченных Совета по делам РПЦ при Совмине СССР, изучается такая форма взаимоотношений народа и власти, как ходатайства, или петиционная деятельность по вопросу отстаивания веры. Анализируется материальное положение и социальный статус отдельных епархий, приходов, представителей духовенства и мирян. Исследователи пытаются выявить механизмы распространения в советской провинции пропаганды атеизма и «научного коммунизма».
В целом историография антирелигиозной кампании Н. С. Хрущева 1958– 1964 гг. в настоящий момент остается по-прежнему перспективной. До сих пор остается актуальным региональный аспект вышеозначенной тематики. Далеко не все региональные архивы были изучены, множество уникальных документов еще не введено в научный оборот. Более того, некоторые аспекты послевоенной вероисповедной политики советской власти не до конца изучены, в частности — социально-экономическое положение РПЦ и ее структурных единиц (епархий) в период антирелигиозной кампании, специфика управления епархиями РПЦ в условиях идеологического давления со стороны государства, механизм функционирования государственных структур (Совет по делам РПЦ), ответственных за реализацию «хрущевской» антицерковной кампании.
Список литературы Проблематика современной историографии взаимоотношений Русской Православной Церкви и государства в период "хрущевских гонений" (1958-1964)
- Абдулов (2006) — Абдулов Н. Т. Уфимская епархия в системе государственно-церковных отношений: 1917-1991 гг.: Дис. ... канд. ист. наук. Уфа, 2006.
- Августин Никитин (2008) — Августин (Никитин), архим. Церковь плененная: митрополит Никодим (1929-1978) и его эпоха (в воспоминаниях современников). СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2008. 674 с.
- Алексеев (1991) — Алексеев В.А. Иллюзии и догмы: Взаимоотношения Советского государства и религии. М.: Политиздат, 1991. 398 с.
- Алексеев (1992) — Алексеев В.А. «Штурм небес» отменяется? Критические очерки по истории борьбы с религией в СССР. М.: Россия молодая, 1992. 304 с.
- Письма патриарха Алексия I (2010) — Алексий I (Симанский), св. патриарх Московский и Всея Руси. Письма патриарха Алексия I в Совет по делам РПЦ — Совет по делам религий при Совете народных комиссаров — Совете Министров СССР. 1945-1970 // Сост. Ляшенко К. Г., Лавинская О. В., Орлова Ю. Г. М.: РОССПЭН, 2009-2010. Т. 2: 1954-1970 гг. 671 с.
- Белкин (1995) — Белкин А.И.Государственно-церковные отношения в Мордовии в 20-х — начале 60-х годов XX века (на примерах русского православия): Дис. ... канд. ист. наук. Саранск, 1995. 246 с.
- Васильева (1990) — Васильева О.Ю. Советское государство и деятельность Русской православной церкви в период Великой Отечественной войны: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1990. 28 с.
- Васильева, Кнышевский (1994) — Васильева О. Ю. Кнышевский П. Н. Красные конкистадоры. М.: Тов-во «Соратник», 1994. 269 с.
- Васильева (1999) — Васильева О. Ю. Русская православная церковь в политике советского государства в 1943-1948гг.: Дис. ... докт. ист. наук. М., 1999. 294 с.
- Васильева (2004) — Васильева О.Ю. Русская православная церковь и II Ватиканский собор. Факты. События. Документы. М.: Лепта-Пресс, 2004. 380 с.
- Горбатов (1996) — ГорбатовА.В. Церковно-государственные взаимоотношения в Кемеровской области, 1943-1969 гг.: Дис. ... канд. ист. наук. Кемерово, 1996. 171 с.
- Горбатов (2009) — Горбатов А.В. Государство и религиозные организации Сибири в 1940-1960-е гг.: Дис. ... докт. ист. наук. Томск, 2009. 407 с.
- Горбатов (2011) — Горбатов А.В. Государство и религиозные организации в СССР (1940-1960-е гг.) в трудах эмигрантских и современных исследователей // Вестн. Кемер. гос. ун-та. 2011. №2. С. 10-12.
- Гордиенко (1984а) — Гордиенко Н. С. «Крещение Руси»: факты против легенд и мифов: полемические заметки. Л.: Лениздат, 1984. 287 с.
- Гордиенко (1984б) — Гордиенко Н. С. Эволюция русского православия (20-80-е гг. ХХ ст.). М.: Знание, 1984. 64 с.
- Гордиенко (1987) — Гордиенко Н С. Современное русское православие. Л.: Лениздат, 1987. 304 с.
- Гордун (1993) — Гордун С., свящ. Русская Православная Церковь в период с 1943 по 1970 год // Журнал Московской Патриархии. 1993. №№ 1, 2.
- Граббе (1989) — Граббе Г., протопресв. Правда о русской церкви на родине и за рубежом: (По поводу книги С. В. Троицкого «О неправде Карловацкого раскола»). 2-е изд. Джорданвилль (Н. I.): Свято-Троиц. монастырь, 1989. 216 с.
- Иоанн Снычев (1995) — Иоанн (Снычев), митр. Самодержавие духа: Очерки рус. самосознания. Саратов: Надежда, 1995. 333 с.
- История Русской Православной Церкви. От Восстановления Патриаршества до наших дней. Т. 1 (1917-1970) / Под ред. М. Б. Данилушкина. СПб.: Воскресение, 1997. 1020 с.
- Константинов (1967) — Константинов Д., прот. Гонимая церковь (Рус. православ. церковь в СССР). Нью-Йорк: Всеславян. изд-во, 1967. 383 с.
- Константинов (1967) — Константинов Д., прот. Зарницы духовного возрождения: русская православная церковь в СССР в конце шестидесятых и в начале семидесятых годов. London, Ontario: Заря, 1973. 140 с.
- КПСС (1985) — КПСС. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898-1986). Т. 8: 1946-1955 / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. 9-е изд., доп. и испр. М.: Политиздат, 1985. 542 с.
- КПСС (1986) — КПСС. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898-1986). Т. 9: 1956-1960 / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. 9-е изд., доп. и испр. М.: Политиздат, 1986. 574 с.
- Куроедов (1984) — Куроедов В.А. Религия и церковь в советском обществе. 2-е изд., доп. М.: Политиздат, 1984. 256 с.
- Леонтьева (2003) — Леонтьева Т.Г. О «советском» периоде истории Русской православной церкви: версии постсоветской российской историографии // The Soviet and PostSoviet Review. 2003. Vol. 30. No. 2.
- Маслова (2005) — Маслова И. И. Эволюция вероисповедной политики советского государства и деятельности Русской Православной церкви (1953-1991): Дис. ... докт. ист. наук. М., 2005.
- Мейендорф (1981) — Мейендорф И, прот. О путях Русской Церкви // Мейендорф И., прот. Православие в современном мире. New York: Chalidze, 1981. 230 с.
- Михаил Мудьюгин (1995) — Михаил (Мудьюгин), архиеп. Русская православная церковность, вторая половина XX в. М.: ББИ, 1995. 124 с.
- На пути к свободе совести (1989) — На пути к свободе совести: [Сборник]. М.: Прогресс, 1989. 493 с.
- Николин (1997) — Николин А, свящ. Церковь и государство: (История правовых отношений). М.: Сретенский м-рь, 1997. 429 с.
- Одинцов (1991) — Одинцов М.И. Хождение по мукам. 1954-1960 годы // Наука и религия. 1991. № 7.
- Одинцов (1994а) — Одинцов М.И. Государство и церковь в России: XX век. М.: Луч, 1994. 171 с.
- Одинцов (1994б) — Одинцов М.И. Десять лет жизни патриарха Алексия. 19551964 // Отечественные архивы. 1994. № 5.
- Одинцов (1995) — Одинцов М.И. Государственно-церковные отношения в политической истории России // Государственно-церковные отношения в России. Курс лекций: в 2 ч. / Под ред. Ф. Г. Овсиенко, Н. А. Трофимчука. М.: РАГС, 1995. Ч. 1. С. 26-73.
- Одинцов (1996) — Одинцов М И.Государственно-церковные отношения в России (На материалах отечественной истории XX века): Дис. ... докт. ист. наук, в виде научного доклада. М., 1996. 50 с.
- Одинцов (2002) — Одинцов М.И. Русская православная церковь в XX веке: история, взаимоотношения с государством и обществом. М.: ЦИНО, 2002. 310 с.
- Одинцов (2003) — Одинцов М. И. Вероисповедальная политика советского государства в 1939-1958 гг. // Власть и церковь в СССР и других странах Восточной Европы. 1939-1958 (Дискуссионные аспекты). М., 2003.
- Одинцов, Чумаченко (2013) — Одинцов М.И., Чумаченко Т.А. Совет по делам Русской православной церкви при СНК (СМ) СССР и Московская патриархия: эпоха взаимодействия и противостояния. 1943-1965 гг. СПб.: Российское объединение исследователей религии, 2013. 372 с.
- Поспеловский (1995) — Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в XX веке. М.: Республика, 1995. 509 с.
- Регельсон (1977) — Регельсон Л. Трагедия русской церкви 1917-1945. Paris: YMCA-press, 1977. 625 с.
- Русак (1993) — Русак (Степанов) В., диак. Свидетельство обвинения. Церковь и государство в Советском Союзе: в 3 ч. М.: Русское книгоиздательское товарищество, 1993. 275 с.
- Русак (1993а) — Русак (Степанов) В., диак. История Российской церкви: со времени основания до наших дней. Джорданвиль, 1993. 580 с.
- Русское православие (1989) — Русское православие: вехи истории / [Я. Н. Щапов, А. М. Сахаров, А. А. Зимин и др.; Науч. ред., глава авт. коллектива, авт. вступ. ст. и послесл. А. И. Клибанов]. М.: Политиздат, 1989. 719 с.
- Русская Православная Церковь (2008) — Русская Православная Церковь. XX век / Беглов А. Л., Васильева О. Ю., Журавский А. В. и др. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2008. 800 с.
- Струве (2000) — Струве Н. Православие и культура: [Сб. ст.]. 2-е изд., испр. и доп. М.: Русский путь, 2000. 629 с.
- Цыпин (1997) — Цыпин В., прот. История Русской церкви. История Русской церкви: [в 9 кн.]. М.: Изд-во Спасо-Преображ. Валаам. монастыря, 1997. 830 с.
- Чумаченко (1994) — Чумаченко Т.А. Советское государство и Русская православная церковь: история взаимоотношений: 40-е — первая половина 50-х гг.: Дис. ... канд. ист. наук. М., 1994. 248 с.
- Чумаченко (1998) — Чумаченко Т.А. Совет по делам Русской православной церкви при СНК СССР в 1943-1947 гг.: история создания и формирования аппарата // Государство, религия, церковь в России и за рубежом: информ.-аналит. бюллетень. М., 1998. №5 (17). С. 86-106.
- Чумаченко (1999) — Чумаченко Т.А. Государство, православная церковь и верующие. 1941-1961 гг. М.: АИРО-XX, 1999. 246 с.
- Шкаровский (1996) — Шкаровский М. В. Русская православная церковь и религиозная политика Советского государства в 1939-1964 гг.: Дис. ... докт. ист. наук. СПб., 1996. 508 с.
- Шкаровский (1999) — Шкаровский М. В. Русская православная церковь при Сталине и Хрущёве. М., 1999. 400 с.
- Шкаровский (2010) — Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь в XX веке. М.: Вече, Лепта, 2010. 478 с.
- Штриккер (1995) — Русская православная церковь в советское время (1917-1991) / [Пер. с нем.]; сост. Г. Штриккер. М.: Пропилеи, 1995. Кн. 2. М.: Пропилеи. 462 с.
- Эллис (1990) — Эллис Дж. Русская православная церковь: Согласие и инакомыслие / Пер. с англ. Г. Сидоренко. London: Overseas publ., 1990. 307 с.