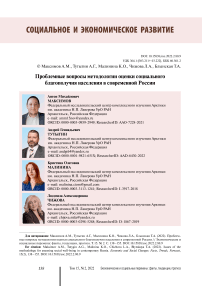Проблемные вопросы методологам оценки социального благополучия населения в современной России
Автор: Максимов Антон Михайлович, Тутыгин Андрей Геннадьевич, Малинина Кристина Олеговна, Чижова Людмила Александровна, Блынская Татьяна Анатольевна
Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc
Рубрика: Социальное и экономическое развитие
Статья в выпуске: 2 т.15, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье осуществлены критический анализ и обобщение современных концепций социального благополучия, а также декомпозиция и операционализация этого социологического понятия, что позволяет более комплексно решать задачу измерения и оценки качества жизни индивидов и социальных групп. Показаны различия в понимании социального благополучия как социально-психологического конструкта, основанного на субъективном оценивании индивидом условий и результатов своей жизнедеятельности, и как объективированной оценки социально-экономического положения индивида, его включенности в социальные сети, доступности для него общественных благ. Отмечена необходимость при выборе методики измерения социального благополучия учитывать тип экономики исследуемого общества (развитая или развивающаяся) и условия существования местного сообщества в целом, а не только отдельных индивидов (концепция community well-being). На основе обобщения существующих подходов, методик и наборов переменных для эмпирического изучения социального благополучия авторами предложена своя версия методики комплексного измерения социального благополучия, учитывающая специфику социальных процессов и отношений в современной России. В рамках этой методики вьщеляется 11 базовых факторов, влияющих на уровень социального благополучия, операционализируемых посредством более чем 50 индикаторов. Источниками данных для их измерения наряду с государственной и корпоративной статистикой выступают массовые выборочные и экспертные опросы. В статье также поставлена проблема расчета весовых коэффициентов для различных факторов социального благополучия, предложено её решение на основе метода ранжирования как частного случая метода экспертных оценок. Рассмотренный набор факторов позволяет охватить экономические, социальные, политико-правовые, медицинские, социокультурные и бытовые компоненты жизнедеятельности индивидов и местных сообществ.
Социальное благополучие, качество жизни, субъективное благополучие, факторы социального благополучия, методы экспертных оценок, метод ранжирования
Короткий адрес: https://sciup.org/147237363
IDR: 147237363 | УДК: 364.1:[303.211+
Текст научной статьи Проблемные вопросы методологам оценки социального благополучия населения в современной России
Социально-экономическое развитие любой относительно автономной территориально организованной социальной системы (региона, федерального округа и т. п.) может быть представлено в двух плоскостях – плоскости материально-экономической и плоскости социального благополучия. В первом случае исследователя интересует актуальное состоя- ние и динамика макроэкономических, демографических и материально-технических параметров, отражающих объективное состояние факторов производства. Во втором случае речь идет о показателях, с помощью которых оцениваются возможности социальной системы удовлетворять потребности интегрированных в неё индивидов в соответствии с общепринятыми
(в рамках данной системы) стандартами. При этом исследователь, количественно оценивая различные элементы жизнедеятельности людей, определяющие их благополучие, должен обращаться не только к объективированным показателям (например, младенческой смертности, реального среднедушевого дохода или обеспеченности жилой площадью), но и к показателям, отражающим оценку самими людьми того, насколько они удовлетворены условиями собственного существования. Как соотносятся между собой два этих подхода к пониманию социального благополучия? Каковы концептуальные основания включения интерсубъективного компонента в комплексную оценку качества жизни? Какие важные методические проблемы измерения социального благополучия требуют решения и какими могут быть эти решения? Ответы на указанные вопросы и выступают содержанием настоящей статьи.
Прежде чем обратиться непосредственно к вопросам методологии оценки социального благополучия в России, кратко рассмотрим теоретические новации и направления научных дискуссий в этой области за последнее десятилетие.
Понятие «социальное благополучие» (social well-being) не имеет общепринятой строгой дефиниции – его содержание может варьировать в зависимости от дисциплинарной области и предпочитаемого конкретными исследователями теоретического подхода. Тем не менее можно утверждать, что среди ученых существует консенсус относительно концептуального ядра данного термина. Так, в настоящее время по итогам работы международной комиссии Стиглица – Сена – Фитусси общепринятой стала точка зрения о недостаточности использования для измерения социального благополучия только эконометрических индикаторов, таких как среднедушевые показатели ВВП, национального дохода или государственных расходов на здравоохранение. Необходимыми параметрами социального благополучия признаются ожидаемая продолжительность жизни, доля времени, отводимая на досуг, безопасность (физическая и экономическая), состояние окружающей среды, неравенство и субъективные оценки людьми своего благополучия (Stiglitz et al., 2009). Особенно заметной роль внеэкономических факторов социального благополучия становит- ся при сравнении стран, сильно различающихся по среднедушевым ВВП и доходу. В работе Д. Алтиндага и Ц. Сюй показано, что существует различие во влиянии экономических факторов и факторов, связанных с качеством политико-правовых институтов, на социальное благополучие для жителей развивающихся стран и жителей стран с развитой экономикой – для первых рост социального благополучия коррелирует с ростом среднедушевых доходов, тогда как степень коррумпированности правительства, демократичность режима и гарантии гражданских прав на него практически не влияют; в развитых странах наблюдается обратная ситуация (Altindag et al., 2017). Ф. Баччини и его коллеги из Национального института статистики (Италия) указывают на то, что концепция социального благополучия как многомерного явления, синтезирующая социально-психологический (субъективное благополучие) и социально-экономический (блага и возможности) подходы, широко признана среди специалистов, дискуссии ведутся преимущественно о большей или меньшей валидности и аналитических преимуществах различных агрегированных индексов социального благополучия (Bac-chini et al., 2020).
Среди исследователей, в частности специализирующихся на изучении социальных проблем в развивающихся странах Латинской Америки, имеет место точка зрения, согласно которой социальное благополучие следует рассматривать в тесной взаимосвязи с концептами счастья и удовлетворенности жизнью. При этом подчеркивается, что смысловое содержание трех концептов пересекается, а все вместе они могут быть обозначены зонтичным термином «качество жизни», мерой которого выступают (Toscano, Molgaray, 2019, p. 574). В рамках такого подхода акцент при измерении социального благополучия смещается от внешних объективированных показателей в сторону переменных, являющихся субъективной интерпретацией своего положения самими обследуемыми (субъективное благополучие) (Toscano, Molgaray, 2019, p. 580–583). Развивая концепцию субъективного благополучия, ряд зарубежных авторов включают удовлетворенность жизнью и счастье в его структуру в качестве составных компонентов (Gulyas, 2016), некоторые обосновывают необходимость введения катего- рии «эмоциональное благополучие» (affective well-being), предполагающей выявление соотношения между частотами негативных и позитивных эмоций, переживаемых индивидами в повседневной жизни (Fors, Kulin, 2016, p. 326– 328). Эти идеи наследует концепция счастья (happiness) как когнитивно-эмоционального феномена, предложенная в работах Э. Динера и Д. Майерса (Myers, Diener, 1995; Diener, Suh, 1997; Myers, 2000). Э. Динер и Д. Майерс, не отрицая полностью влияние материально-финансовых факторов на социальное благополучие, акцентируют роль культурной среды, характер общезначимых ценностей, степень религиозности, а также социальных (родственных, дружеских) связей, эмоциональных переживаний индивида и его представлений о мере достигну-тости персональных жизненных целей.
В обобщающих работах российских исследователей выражается иной взгляд на соотношение указанных понятий. Так, согласно Д.А. Леонтьеву, субъективное благополучие представляет собой сумму положительных и отрицательных эмоций и когнитивных оценок жизни в целом в текущий момент времени, а качество жизни – это «предиктор субъективного благополучия, характеризующий меру благоприятности объективных внешних условий жизни индивида» (Леонтьев, 2020, с. 26). Иными словами, взаимное отношение двух концептов у Д.А. Леонтьева оказывается «перевернутым» по сравнению с интерпретацией латиноамериканских исследователей. Вместе с тем он подчеркивает, что качество жизни в его интерпретации является все же слабым фактором субъективного благополучия – работы таких зарубежных авторов, как Д. Канеман и А. Тверски, С. Любомирски, У. Штаудингер и др., показывают, что объективные условия жизнедеятельности влияют на него незначительно и опосредованы личностными параметрами, отчасти врожденными, отчасти сформированными в процессе социализации под воздействием ближайшего окружения и культурного контекста (Леонтьев, 2020, с. 21). Таким образом, отсюда следует два вывода: во-первых, субъективное благополучие целесообразно рассматривать как параметр, связанный с «объективными» индикаторами социального благополучия нелинейно, следовательно, при измерении социального благополучия этот параметр должен использоваться не как коррелят показателей качества жизни (в вышеуказанном значении), а как дополнительный индикатор, необходимый для построения обобщенного индекса благополучия; во-вторых, поскольку субъективное благополучие является выражением личностных диспозиций, то во многом его уровень определяется ценностями и смыслами, генерируемыми конкретной культурой. Это означает, что одни и те же значения индикаторов качества жизни будут сопровождаться совершенно разными оценками собственного благополучия со стороны представителя среднего класса какого-либо западноевропейского государства и, например, со стороны кочевника-пуштуна из южных районов Афганистана.
А.В. Кученкова привлекает концепт социального самочувствия, которое трактуется двумя способами: либо как синоним субъективного благополучия, либо как агрегация индикаторов субъективного благополучия и индикаторов, отражающих материальное положение индивидов и доступность для них общественных благ, т. е. то, что Д.А. Леонтьев обозначает понятием «качество жизни» (Кученкова, 2016, с. 120–122). В обоих случаях А.В. Кученкова скорее фиксирует практику использования ещё одной неоднозначной категории в исследованиях отечественных авторов. Фактически, социальное самочувствие (там, где оно не отождествляется с субъективным благополучием) может рассматриваться лишь как терминологическая замена social well-being, а не его концептуальная альтернатива.
А.С. Лысухо указывает, что в российской исследовательской практике сложилась традиция, согласно которой «социальное благополучие становится широким комплексом, агрегирующим в себе условия жизнедеятельности человека. Этот комплекс включает в себя как социальные и материальные условия жизнедеятельности, выражаемые в уровне жизни, так и такие составляющие качества жизни, как экологическая обстановка, политический климат, психологический фон...» (Лысухо , 2020, с. 9). При этом результаты эмпирических исследований показывают, что, во-первых, при прочих равных, оценка благополучия изменяется в связи со сменой жизненных этапов: брак, рождение детей, старение (зависимость подтверждается на материалах 6-й волны (2012)
Европейского социального исследования и первичных данных по работающим 26-й волны (2017) Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ); во-вторых, наблюдается разрыв между субъективными и объективированными оценками благополучия – респонденты, имеющие сходный уровень доходов, существенно по-разному оценивают свои жизненные шансы под влиянием индивидуально-личностных различий и субъективных представлений о желаемых целях и располагаемых возможностях (Лысухо , 2020, с. 9-13).
М.Ф. Черныш отмечает ключевую роль состояния здоровья в структуре факторов, определяющих субъективное благополучие, причем значимыми являются не только медицинские оценки здоровья индивидов, но и их самооценка собственного здоровья, а также оценка ими качества инфраструктуры здравоохранения (Черныш, 2020).
А.В. Андреенкова, рассматривая постсоветский период, убедительно доказывает, что для разных стран комплекс факторов, определяющих самооценки уровня счастья, существенно различен. Так, она выделяет два кластера: в первом (страны Балтии, Молдова, Беларусь, Грузия) различия в уровне счастья коррелируют с макросоциальными (социально-экономическими и политико-институциональными) показателями; во втором (страны Средней Азии, Армения и Азербайджан) гораздо более существенную роль играет культурно-нормативная система общества (Андреенкова, 2020, с. 322–326). Таким образом, результаты её исследования подтверждают идею, что для обществ разного типа весовые коэффициенты экономических и институциональных (объективированных) и культурно-нормативных (интерсубъективных) показателей социального благополучия будут различными.
В рамках популярной в последнее десятилетие концепции community well-being обосновывается концептуальное отличие социального благополучия отдельных индивидов от социального благополучия целых локальных сообществ1. При этом авторы данной концеп- ции подчеркивают преимущества своего подхода, поскольку именно посредством категории «community well-being» наилучшим образом раскрываются социетальные условия жизнедеятельности индивидов, что особенно важно при решении задач управления социально-экономическим развитием2. Кроме того, в силу вовлеченности индивидов в сложные сети социальных взаимодействий и наличия у каждого из них набора идентичностей, формирующих устойчивое чувство принадлежности к определенным сообществам, условия существования последних не могут не влиять на благополучие конкретных людей.
Важно также подчеркнуть следующее: если одним из значимых компонентов социального благополучия на индивидуальном уровне выступает субъективная оценка собственного благополучия, то для потребностей исследования «социального благополучия сообществ» более существенную роль играет интерсубъективный компонент. Смысл его состоит в том, что индивид субъективно может быть удовлетворен, например, своими жилищными условиями, но при этом он оценивает жилищные условия большинства других людей в районе своего проживания как неудовлетворительные, что ближе к объективно измеримым параметрам качества жизни3.
Наряду с классификацией факторов социального благополучия, разделяющей их на объективные, интерсубъективные и субъективные, в его структуре выделяются компоненты, связанные с материальным благополучием, социальными факторами (межличностные, внутрисемейные, социально-профессиональные отношения), физическим и психическим здоровьем, средовыми факторами (состояние окружающей среды, коммунальная инфраструктура, политико-правовой режим), субъективным благополучием (общая удовлетворенность жизнью)4 (Морозова и др., 2013).
С. Уайт из University of Bath (Великобритания) раскрывает многомерный характер социального благополучия в контексте различных подходов к социальной политике. Она выстраивает своеобразную систему координат, где вдоль одной оси располагаются подходы, различающиеся по степени «объективности» параметров, используемых для измерения благополучия (в диапазоне от эконометрического подхода до концепции subjective well-being), а вдоль другой – подходы, отличающиеся тем, в какой мере социальное благополучие допустимо измерять через самооценку людьми своего положения (evaluative), а в какой – через диагностику остроты социальных проблем, которые многими из опрашиваемых могут не восприниматься в таком качестве, но независимо от их мнения влиять на состояние их здоровья, качество среды обитания, безопасность, равенство возможностей и пр. (substantive) На пересечении осей С. Уайт располагает концепцию «комплексного» благополучия (сomprehensive well-being), представляющуюся наиболее релевантной для изучения социального благополучия во всей его полноте и сложности. В то же время исследователь фокусирует внимание на важности подходов, которые 1) освещают проблему сквозь призму субъективной удовлетворенности жизнью и переживания счастья, 2) ставят во главу угла качество социальных связей внутри разного рода сообществ, 3) концентрируются на политике, направленной на улучшение среды обитания граждан и расширение возможностей (capabilities) для достижения жизненных стан-дартов5. В свете сказанного можно заключить, что позиция С. Уайт близка одновременно и к взглядам тех авторов, которые говорят о необходимости перенесения исследовательского внимания с анализа динамики макроэкономических показателей на анализ субъективного благополучия, и к взглядам тех, кто выступает за приоритет изучения community well-being, а не социального самочувствия изолированных индивидов.
Аргентинские исследователи Г. Тонон и Л.Р. де ла Вега в своей модели, адаптированной для развивающихся стран, предлагают ши- рокий набор индикаторов для измерения уровня социального благополучия по 17 компонентам: образование, здоровье, занятость, личная безопасность, жилищные условия, дискриминация, экологический компонент, компоненты, связанные с культурными правами и гендерным равенством, экономическое благосостояние, качество политических институтов, удовлетворенность жизнью и компоненты, связанные с отношениями внутри сообщества (community well-being)6. При описании последних Г. Тонон акцентирует внимание на важной роли таких параметров, как доверие и взаимопомощь между членами сообщества, их участие в деятельности местных гражданских ассоциаций7. Эти параметры являются стандартными индикаторами для измерения так называемого социального капитала (Putnam, 1995, p. 66–67), что позволяет включить его в число ключевых факторов социального благополучия.
В ходе дальнейших поисков оптимального набора переменных для построения комплексных индексов социального благополучия А. Микалос и П. Морин Хэтч (University of Northern British Columbia) выявили, что результаты измерений по ряду агрегированных показателей, таких как индекс человеческого развития (HDI), индекс устойчивого общественного развития (SSI), индекс всемирного исследования счастья (WHS) и некоторых других, хорошо коррелируют между собой, а их комбинация позволяет строить надежные рейтинги в рамках межстрановых исследований социального благополучия (Michalos, Hatch, 2020). Отсюда можно сделать вывод о том, что декомпозиция этих индексов позволит выделить общий набор валидных индикаторов социального благополучия и уже на их основе рассчитывать агрегированный показатель.
Построение универсальных индексов социального благополучия полезно для межстрановых исследований, однако более глубокое понимание процессов социального развития на определенной территории требует учета местного контекста, специфических для неё про- блем и социокультурных особенностей – коллективных представлений о благополучии, доминирующих ценностей и целевых установок местных жителей8. В связи с этим необходимо дополнять и корректировать набор анализируемых факторов и используемых индикаторов для каждого конкретного кейса.
Методология измерения социального благополучия: факторы и индикаторы
Как было показано выше, в научной литературе описано множество конкретных методик измерения социального благополучия. В основе любой такой методики лежит определение набора факторов, детерминирующих общий уро- вень благополучия (латентные переменные), и соответствующих им непосредственно измеряемых индикаторов. Обратившись к методикам, апробированным в международных исследованиях, в частности к методике ООН (индекс человеческого развития), ВОЗ, ОЭСР, определения индекса устойчивого развития и комплексной методике сравнительного исследования российских регионов (Институт философии РАН; Н.И. Лапин, Л.А. Беляева), мы сопоставили между собой используемые в них наборы латентных переменных (факторов благополучия). Соответствия в этих наборах отражены в таблице 1.
Таблица 1. Сравнение методик измерения социального благополучия (факторы социального благополучия)
Методика / Фактор Индекс человеческого развития (HDI, ООН)1) WHOQOL (ВОЗ)2) The better life index (ОЭСР)3) Sustainable Development Goals (SDG Index)4) Economist Intelligence Unit quality-of-life index5) Институт философии РАН6) Здоровье + + + + + + Социальные связи + + + Материальное благополучие + + + + + Занятость + + + + Доступ к образованию + + + + + Доступ к медицинским услугам + + + Безопасность жизни + + + + + Гражданские права и политические свободы + + + + Культурное потребление и досуг + + + Состояние окружающей среды + + + + Климатические условия + Субъективное благополучие + + 1) Human Development Report – 2019. UNDP. Available at: (accessed: 01.02.2022). 2) The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL). World Health Organization. Available at: publications/whoqol/en/ (accessed: 01.02.2022). 3) OECD Better Life Index. URL: 4) Sustainable Development Report – 2019. Available at: (accessed: 01.02.2022). 5) The Economist Intelligence Unit’s quality-of-life index. The World in 2005. Available at: (accessed: 01.02.2022). 6) Лапин Н.И., Беляева Л.А. (2010). Программа и типовой инструментарий «Социокультурный портрет региона России» (Модификация-2010). М.: МФРАН. C. 13–26. URL: (дата обращения 01.02.2022). Источник: составлено авторами.
Ориентируясь на эти соответствия, мы выделили 11 ключевых факторов, определяющих динамику социального благополучия. Каждый фактор был разложен на ряд показателей, к ко- торым подобраны эмпирически измеримые индикаторы. Итоговые результаты операциона-лизации выделенных нами факторов сведены в таблицу 2.
Таблица 2. Операционализация факторов социального благополучия
|
Фактор |
Индикатор |
Тип индикатора* |
|
Здоровье |
Самооценка состояния физического здоровья |
С |
|
Ожидаемая продолжительность жизни |
О |
|
|
Самооценка эмоционального состояния |
С |
|
|
Материальное благосостояние |
Реальный располагаемый доход (среднее значение) |
О |
|
Самооценка покупательной способности |
С |
|
|
Коэффициент занятости |
О |
|
|
Структура доходов домохозяйства |
О |
|
|
Площадь (кв. м) жилья на душу население |
О |
|
|
Оценка жилищных условий |
С; И |
|
|
Субъективное благополучие |
Оценка общей удовлетворенности жизнью |
С; И |
|
Оценка изменения качества жизни по сравнению с предшествующим годом |
С; И |
|
|
Прогноз изменения качества жизни на ближайший год |
С; И |
|
|
Степень уверенности в будущем |
С |
|
|
Социальный капитал |
Индекс доверия ближайшему социальному окружению |
С |
|
Индекс доверия добровольным ассоциациям |
И |
|
|
Индекс доверия местному самоуправлению и ТОС |
И |
|
|
Отношение к получению взятки с использованием служебного положения** |
С; И |
|
|
Отношение к уклонению от уплаты налогов** |
С; И |
|
|
Отношение к получению государственных пособий человеком, который не имеет на них права** |
С; И |
|
|
Отношение к безбилетному проезду на общественном транспорте** |
С; И |
|
|
Доля участников общественных объединений от общей численности населения |
О |
|
|
Окружающая среда |
Оценка состояния окружающей среды |
О*** |
|
Социальная защищенность |
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума |
О |
|
Оценка доступности медицинских услуг |
О |
|
|
Оценка качества медицинских услуг |
С; И |
|
|
Оценка доступности учреждений дошкольного образования |
О |
|
|
Оценка качества учреждений дошкольного образования |
С; И |
|
|
Отношение средней величины пенсии к средней величине заработной платы |
О |
|
|
Правовая защищенность |
Уровень виктимизации населения |
О |
|
Индекс восприятия коррупции |
И |
|
|
Доля населения, сталкивавшаяся с злоупотреблениями со стороны полиции |
О |
|
|
Доля населения, сталкивавшаяся с злоупотреблениями со стороны чиновников |
О |
|
|
Защищенность от дискриминации в связи с национальностью или расой |
С; И |
|
|
Защищенность от дискриминации в связи с религиозными убеждениями |
С; И |
|
|
Защищенность от дискриминации в связи с политическими убеждениями |
С; И |
|
|
Защищенность от дискриминации в связи с полом и / или возрастом |
С; И |
|
|
Культурнодосуговая сфера |
Территориальная доступность спортивных объектов |
О |
|
Финансовая доступность спортивных учреждений |
О |
|
|
Оценка достаточности объектов рекреации |
С |
|
|
Оценка достаточности учреждений досуга для молодежи и взрослых |
С |
|
|
Частота посещения учреждений культуры и связанных с ними мероприятий |
О |
|
|
Число учреждений культуры на 1000 чел. |
О |
Окончание таблицы 2
|
Фактор |
Индикатор |
Тип индикатора* |
|
Образование |
Доля населения с высшим образованием |
О |
|
Средняя и ожидаемая продолжительность обучения |
О |
|
|
Оценка качества среднего (полного) образования |
С; И |
|
|
Оценка качества профессионального образования |
С; И |
|
|
Благоустройство территории проживания |
Оценка качества работы городских / поселковых коммунальных служб |
С |
|
Оценка благоустройства придомовых и дворовых территорий |
С |
|
|
Оценка качества работы УК / ТСЖ |
С |
|
|
Оценка состояния дорожной сети в регионе |
О |
|
|
Удовлетворенность работой общественного городского транспорта |
С; И |
|
|
Удовлетворенность работой общественного междугороднего транспорта |
С; И |
|
|
Оценка достаточности учреждений сферы услуг и розничной торговли в зоне непосредственного проживания |
С |
|
|
Ассоциированность с территорией проживания |
Доля лиц, идентифицирующих себя с локальной / региональной общностью |
С |
|
Степень желаемости личной эмиграции |
С |
|
|
Степень желаемости эмиграции для несовершеннолетних детей / внуков |
С |
|
|
* Каждый индикатор классифицирован по принципу разделения их на объективированные (О), субъективные (С) и интерсубъективные (И). В качестве последних указываются те, значения которых определяются исходя из доминирующей в обществе системы норм и ценностей, политической культуры, представлений о стандартах качества жизни и потребления. В отдельных случаях аналитически различить субъективный и интерсубъективный характер индикатора не представляется возможным, поэтому указываются оба кода (С; И). ** Эти индикаторы являются показателями приверженности нормам гражданской кооперации, которая в рамках проекта «Евробарометр в России» рассматривается как одна из ключевых компонент социального капитала. *** На основе оценки экспертов. Источник: составлено авторами. |
||
Предлагаемые операционализация и эмпирические индикаторы требуют некоторого комментария. Он будет представлен ниже.
Здоровье . В наиболее развернутом виде этот фактор представлен в методике исследования качества жизни Всемирной организации здравоохранения, где отдельно оценивается состояние физического и психического здоровья. Эта методика предполагает достаточно большое число индикаторов, что важно для задач ВОЗ, но избыточно для социологического изучения благополучия населения. Поэтому мы ограничились двумя основными индикаторами – самооценкой физического здоровья и самооценкой эмоционального состояния, дополнив их индикатором «ожидаемая продолжительность жизни». Выбор последнего обусловлен тем, что он используется при расчете индекса человеческого развития ООН.
Материальное благосостояние выступает в качестве главной компоненты для измерения социального благополучия в работах многих отечественных экономистов9. М.Ю. Малкина прямо трактует социальное благополучие как «наличие необходимых ресурсов для полноценной жизни», а также степень «обеспеченности людей жизненными благами, средствами существования» (Малкина, 2017, с. 49).
Для измерения денежных доходов населения предлагается следующая формула:
РРД Отн
РРД^ ПМ; ,
где РРД i (в рублях) – реальные располагаемые (среднедушевые) доходы населения, проживающего на i -той территории, ПМ i (в рублях) – прожиточный минимум (в среднем) для населения i -той территории, РРД О тн — относительная величина, показывающая, сколько в среднем прожиточных минимумов можно покрыть среднедушевым доходом. Реальный располагаемый доход как показатель, базирующийся на данных государственной статистики, дополняется индикатором оценки покупательной способности доходов граждан, измеряемым на основе данных выборочных опросов. Он предполагает вербально-численную градацию, основанную на шкале Харрингтона.
Коэффициент занятости – показатель, хорошо обеспеченный статистически, но в реальности не всегда адекватно отражающий состояние рынка труда, т. к. он не учитывает неофициальную занятость. Нередки случаи, когда основной (официальный) вид деятельности человека приносит доход, сопоставимый с его дополнительным заработком. В связи с этим коэффициент занятости предлагается дополнить данными выборочных опросов домохозяйств о структуре их доходов и доли в ней трудовых доходов.
Оценку жилищных условий, альтернативную статистическому показателю количества кв. метров на человека, предлагается проводить путем выборочных опросов с ранжированием ответов по вербально-численной шкале.
Субъективное благополучие отражает интегральную оценку индивидами своего объективного экономического, правового и культурного положения в контексте их собственной иерархии базовых (терминальных) ценностей и жизненных целей. Для измерения субъективного благополучия предлагается два показателя. Первый, «удовлетворенность жизнью», отражает оценку индивидом полноты достижения его приоритетных жизненных целей. Второй, «социальный оптимизм», призван отражать среднесрочную оценку индивидом благоприятности условий жизнедеятельности на той или иной территории с точки зрения достижения его приоритетных жизненных целей. Методика расчета этого показателя предложена и обоснована Н.И. Лапиным и Л.А. Беляевой (Лапин, Беляева, 2010).
Социальный капитал. Концепт социального капитала операционализируется через набор эмпирических показателей, к числу которых относятся уровень доверия, нормы гражданской кооперации и участие в добровольных ассоциациях10. Взяв за основу данный подход, мы конкретизировали индикаторы, по которым следует проводить измерение компонентов социального капитала. Уровень доверия измеряется через индексы социального доверия – доверия к ближайшему социальному окружению (родственники, друзья, коллеги по работе, соседи по дому) и доверия к людям вообще. Наряду с социальным доверием необходимо учитывать и институциональное доверие. Мы предлагаем измерение по двум индексам (индекс доверия добровольным ассоциациям и индекс доверия местному самоуправлению), поскольку они отражают готовность индивидов к выстраиванию горизонтальных связей, самоорганизации и консолидации перед лицом общих проблем локального значения. Методика измерения приверженности нормам гражданской кооперации основана на разработках Центра социологических исследований РАНХиГС в рамках проекта «Евробарометр в России». Для измерения уровня участия в добровольных ассоциациях предлагается оценить численность активных членов общественных объединений разного типа относительно общей численности населения обследуемой территории. Поскольку имеющиеся по этому вопросу статистические данные разрознены и неполны, более надежным источником данных становятся репрезентативные опросы населения и экспертные опросы.
Социальная защищенность в узком смысле слова зависит, прежде всего, от степени функциональности институтов здравоохранения и социального обеспечения. Наряду с индикаторами, отражающими состояние этих институтов, мы предлагаем рассматривать в качестве индикатора социальной защищенности уровень бедности, поскольку бедность – явление, обусловленное не только ситуацией в экономике как таковой, но и состоянием системы поддержки малоимущих граждан. Измерение уровня абсолютной бедности на основе сравнения среднедушевых или медианных доходов с пороговым значением бедности (прожиточным минимумом) имеет, по меньшей мере, два недостатка: 1) показатель бедности сильно зависит от методики расчета доходов граждан и домохозяйств; 2) граница, отделяющая бедных от всех остальных членов общества, жестко привязана к такому уровню доходов, который позволяет обеспечить лишь удовлетворение «первичных» потребностей. Вместе с тем, сегодня представления о минимально приемлемом уровне жизни не сводятся только к защищенности от недоедания и бездомности. Следовательно, доходы, которыми располагают индивиды, могут восприниматься многими из них как недостаточные для поддержания общепринятых стандартов потребления, а значит свое положение они будут определять как бедность, даже если его измерение по шкале абсолютной бедности не позволяет официально признать их малоимущими. В связи с этим мы предлагаем в качестве альтернативы измерять уровень бедности на основе оценки индивидами своей покупательной способности и степени экономической депривации.
Выбор именно пенсий из всего перечня государственных и корпоративных выплат компенсирующего, страхового характера и выплат в рамках прямой материальной помощи обусловлен их всеобщностью (с момента наступления страхового случая) и регулярностью выплат. Показатель, отражающий эффект замещения пенсией утраченного трудового дохода, рассчитывается по формуле:
П ср х 100% , (2) Дср где Пср – средний размер ежемесячной трудовой пенсии на конец i-го года, Дср – средняя величина ежемесячной заработной платы на конец i-го года.
Показатели доступности медицинских услуг и их качества предлагается измерять посредством ранговых шкал в ходе массовых и экспертных опросов. Показатели доступности и качества работы учреждений дошкольного образования включены в индикаторы социальной защищенности в связи с тем, что переложение функции социализации детей с родителей на специализированные организации позволяет родителям высвободить время на экономическую активность, без чего домохозяйствам было бы сложно поддерживать привычные стандарты качества жизни.
Правовая защищённость. В качестве показателей для оценки уровня преступности наряду с числом зарегистрированных преступлений используется коэффициент виктимизации, фиксируемый в выборочных опросах населения. Виктимизационные опросы, несмотря на некоторые их изъяны, связанные с сензитивным характером вопросов, являются более валидным инструментом для определения уровня преступности, особенно в части наиболее латентных преступлений, чем данные криминальной статистики (Веркеев и др., 2019). Кор- рупцию предлагается оценивать, прежде всего, через индекс восприятия коррупции, методика расчета которого апробирована в межстрановых сравнительных исследованиях, а риски дискриминации – посредством показателей, апробированных в практике российских научных исследований (Ромашкина и др., 2015, с. 58–59).
Культурно-досуговая инфраструктура как фактор социального благополучия выделяется в ряде методик его измерения (см. табл. 1). Конкретный набор показателей в зависимости от методики может разниться. Мы ограничились тремя показателями. Показатель «условия для проведения досуга» был выбран нами в связи с его частой упоминаемостью в методических разработках по измерению качества жизни. Показатель доступности спортивных объектов и учреждений важен для нас, т. к. он отражает внешние условия для сохранения физического здоровья через физическую активность. Наконец, показатель «культурное потребление» был выбран по двум основаниям: 1) в качестве маркера реального уровня образования, не связанного с наличием образовательного сертификата, а выражающего наличие сформированных образованием знаний, навыков и мотивации для потребления произведений культуры; 2) в качестве маркера развития культурной инфраструктуры в конкретном регионе / населенном пункте, что, как правило, коррелирует с высокими экономическими показателями региона.
Уровень образования и его доступность фигурируют в большинстве общепризнанных методик измерения социального благополучия, включая методику ООН для расчета индекса человеческого развития. В то же время качество системы образования оказывает прямое влияние на экономическую динамику через формируемый ею человеческий капитал. Как следствие, образование и прямо, и косвенно воздействует на уровень социального благополучия, что делает его одним из ключевых факторов в рамках предлагаемой авторами методологии.
Для оценки благоустройства территории проживания более валидными представляются индикаторы, регистрирующие оценку индивидами удовлетворенности своих потребностей в соответствующих общественных благах (транс- порт, коммунальные сети и т. д.) и сервисной инфраструктуре, чем объективированные показатели ведомственной статистики, не в полной мере учитывающие запросы со стороны населения и качественные характеристики комфортности городской среды.
Ассоциированность с территорией проживания . Сопричастность к жизни регионального или локального сообщества, общая с ним идентичность – один из значимых социально-психологических факторов социального благополучия как отдельных индивидов, так и сообществ в целом. Кроме того, этот фактор важен с точки зрения сохранения народонаселения и дальнейшего развития территорий. Наряду со степенью сформированности территориальных идентичностей, фиксируемой в массовых опросах, выраженность эмиграционных установок выступает важнейшим косвенным индикатором отчуждения индивидов от локальных сообществ и/или неудовлетворенности местом проживания.
Методические проблемы расчёта весовых коэффициентов факторов социального благополучия
Рассмотренные выше факторы, очевидно, имеют разную значимость с точки зрения влияния на социальное благополучие населения определенной территории. Её оценка предполагает присвоение факторам числовых значений. Когда факторы сводимы к количественным индикаторам, это не представляет проблемы. Однако в иных случаях возникает необходимость обратиться к экспертным методам – обширному набору разветвлённых процедур, применение которых представляет собой самостоятельную задачу.
Оценить степень влияния факторов можно различными способами – от прямого статистического расчета весовых коэффициентов, эконометрического либо имитационного моделирования до методов системного анализа. Среди последних наиболее известными являются методы прямой расстановки, ранжирования и анализа иерархий. Первые два получили широкое распространение из-за своей простоты, последний – вследствие технологичности используемых в нём процедур. На эмпирическом материале было показано, что все три перечисленных подхода высоко коррелированы (Коробов, 2005).
Не исключается и возможность проведения процедуры имитационного моделирования, которая во многих случаях дает вполне приемлемые результаты. В одном из аналогичных исследований полученные путем симуляций отклонения давали разброс от 3 до 32% со средней ошибкой, статистически незначимо отличной от нуля. Однако коэффициенты корреляции, полученные экспериментальным и модельным путем, отличались друг от друга почти в два раза. Это наводит на мысль о необходимости рассматривать еще и предельную ситуацию, когда факторы образуют строгую иерархию – ранги не объединяются, а в матрице парных сравнений метода анализа иерархий каждый фактор по своему значению строго больше (либо строго меньше) предыдущего. Так часто бывает, например, когда все эксперты думают примерно одинаково, задача чётко формализована, критерии оценки ситуации понятны, эксперты примерно равной квалификации и в данном вопросе придерживаются сходных позиций. Тогда совокупность экспертов можно в принципе заменить «коллективным» экспертом, поскольку результаты всех будут близкими.
В связи со сказанным вопрос о том, какой из методов использовать в конкретной практической ситуации, зависит от характеристик и качества полученного эмпирического материала. Заметим, что в своих работах мы чаще обращались к предложенному американским математиком Т. Саати методу анализа иерархий (Саати, 2009) и его различным модификациям. Обсуждению преимуществ и недостатков этой группы методов был посвящен целый ряд исследований (Татарова, 2002; Литвак, 2004; Ту-тыгин, Коробов, 2010; Томашевский, 2014).
Возвращаясь к вопросу о выборе одного из методов, отметим, что их близость может быть ещё выше, если ранжирование исследуемых факторов сделать более точным. Весовые коэффициенты wi факторов ( i = 1, … , n ) рассчитываются по формуле:
W i =
2 • (n + 1 - rlk) n- (n + 1)
где rjk" — среднее значение оценок рангов i-того фактора, выставленных экспертами, k – порядковые номера экспертов. Это означает, что весовые коэффициенты, получаемые ранжированием, будут равномерно распределены внутри интервала, в то время как получаемые методом анализа иерархий и особенно прямой расстановкой могут принимать внутри того же интервала большее число значений. Особенно актуально это для небольшого числа факторов, когда оценки становятся более грубыми вследствие увеличения степени дискретности. Уменьшить влияние дискретности можно посредством разбиения градаций на дополнительные категории. Проще всего вводить ещё три градации, что существенно облегчает работу эксперта, поскольку позволяет принимать решения и давать оценки по принципу «середина», «больше», «меньше». Так и поступают, когда состояние объекта позволяет это сделать (Кочуров и др., 2018).
Также такой подход помогает добиться более адекватных оценок при желании исследователя получить близкие, но не равные значения весовых коэффициентов. Прямая расстановка позволяет это сделать без проблем (правда, если количество факторов n не превышает 6–7), метод анализа иерархий, в общем, тоже, а при ранжировании возникают сложности, обусловленные дискретностью вследствие необходимости отнесения оценок к разным рангам. Указанная проблема носит общий методологический характер и распространяется на все виды вербально-численных шкал (Туты-гин и др., 2020).
В ходе проведённых исследований установили, что метод ранжирования для расчёта весовых коэффициентов не уступает по точности методу анализа иерархий, но при этом свободен от присущих тому недостатков. Также он значительно проще для применения и допускает выстраивание последовательности факторов. Это позволяет широко применять ранжирование для решения широкого класса задач, особенно на предварительных стадиях исследования, где большая точность не требуется, а определяющими выступают качественные оценки. Из вышеизложенного вытекает, что метод ранжирования является в определённом смысле компромиссным, сочетающим в себе простоту реализации и логическую обоснованность результатов.
Применим данную методологию оценки значимости факторов (см. табл. 2) в отношении конкретного субъекта РФ.
Ранжирование проведено группой из восьми квалифицированных экспертов – представителей академического и университетского сообществ, специализирующихся на изучении социально-политических, социально-экономических и экономико-экологических процессов в Архангельской области11. Результаты ранжирования отражены в таблице 3.
Отметим, что в таблице 3 для факторов 7–10 ранги не разделены между собой, поэтому ран-
Таблица 3. Ранжирование факторов социального благополучия
|
Фактор |
№ эксперта |
∑ |
rik |
Ранг |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
Здоровье |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
1 |
10 |
1,25 |
1 |
|
Материальное благополучие |
4 |
2 |
6 |
2 |
2 |
3 |
1 |
2 |
22 |
2,75 |
2 |
|
Субъективное благополучие |
2 |
9 |
9 |
4 |
11 |
2 |
2 |
8 |
47 |
5,88 |
7 |
|
Социальный капитал |
3 |
8 |
10 |
10 |
9 |
7 |
9 |
9 |
65 |
8,13 |
10 |
|
Окружающая среда |
8 |
5 |
7 |
5 |
5 |
8 |
4 |
3 |
45 |
5,63 |
6 |
|
Социальная защищенность |
9 |
4 |
4 |
3 |
4 |
6 |
5 |
6 |
41 |
5,13 |
3 |
|
Правовая защищенность |
7 |
3 |
3 |
6 |
3 |
5 |
11 |
5 |
43 |
5,38 |
4-5 |
|
Культурно-досуговая сфера |
6 |
10 |
5 |
7 |
10 |
10 |
6 |
10 |
64 |
8,00 |
8-9 |
|
Образование |
5 |
6 |
2 |
9 |
6 |
4 |
7 |
4 |
43 |
5,38 |
4-5 |
|
Благоустройство территории проживания |
10 |
7 |
8 |
8 |
7 |
9 |
8 |
7 |
64 |
8,00 |
8-9 |
|
Ассоциированность с территорией проживания |
11 |
11 |
11 |
11 |
8 |
11 |
10 |
11 |
84 |
10,5 |
11 |
|
Источник: составлено авторами. |
|||||||||||
11 Представленные ниже результаты ранжирования и расчета весовых коэффициентов приложимы только к Архангельской области – значения «весов» для других регионов должны определяться на основе оценок местных экспертов.
Таблица 4. Весовые коэффициенты факторов социального благополучия
Для повышения точности весовых коэффициентов можно провести второй тур экспертного опроса. Предлагается следующая процедура. Экспертам даётся право изменить значение весовых коэффициентов, но не более чем на ве- 1
личину Дк- = ± - для одного фактора. В данном случае абсолютное значение предельной величины равно 0,045. При этом должно выполняться следующее условие: если эксперт увеличивает (уменьшает) значение весового коэффициента некоторого фактора, то он должен уменьшить (увеличить) в совокупности на эту же самую величину значения других факторов. В случае, когда Дк. распределяется меж- ду двумя и более факторами, сумма поправок должна быть равной Дк.. Уточнённые таким образом и усреднённые весовые коэффициенты факторов вместе с полученными уточненными рангами приведены в таблице 5. Отметим, что частичные уточнения внесла половина экспертов, остальные посчитали итоговые результаты вполне приемлемыми.
В исследуемой ситуации наиболее значимым по оценкам был признан фактор «Здоровье», включающий в себя такие важные для населения составляющие, как физическое здоровье, продолжительность жизни и эмоциональное состояние, естественным образом напрямую влияющие на социальное благополучие людей. Также вполне предсказуемо на втором месте оказался фактор материального благополучия (работа, доходы, жилье). На III–VII позициях в ранжировании находится группа
Таблица 5. Весовые коэффициенты и ранги социально-экономических факторов
Заключение
Предлагаемая нами методология комплексной оценки социального благополучия отражает современные представления о многомерности этого явления, наличии в его структуре объективированного, субъективного и интерсубъективного компонентов. Описанные в статье наборы факторов и переменных в целом согласуются с теми, которые выделяются в рамках эмпирически апробированных международных и российских методик, и представляют собой их систематизацию и корректировку в части валидных индикаторов и релевантных им методов измерения и источников данных.
С учетом неравновесности влияния выделенных нами факторов на уровень социального благополучия в статье также была решена задача, связанная с обоснованием выбора надежного метода расчета весовых коэффициентов. В качестве такового был предложен и апробирован метод ранжирования – частный случай метода экспертных оценок. Процедура оценки «весов» факторов достаточно чётко формализована, верифицирована и может быть рекомендована для практического использования.
Предлагаемая в статье методика адаптирована к российским реалиям и учитывает особенности экономики и инфраструктуры, институциональной среды и социокультурных процессов в стране. В рамках российской социальной системы она универсальна для всех регионов и муниципальных образований – с поправкой на то, что расчет весовых коэффициентов факторов социального благополучия для конкретных регионов / территорий должен осуществляться на основе оценок местных экспертов.
Список литературы Проблемные вопросы методологам оценки социального благополучия населения в современной России
- Веркеев А.М., Волков В.В., Дмитриева А.В. [и др.] (2019). Как изучать жертв преступлений? // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 2. С. 4—31. DOI: https://doi. org/10.14515/monitoring.2019.2.01
- Коробов В.Б. (2005). Сравнительный анализ методов определения весовых коэффициентов «влияющих факторов» // Социология: методология, методы, математические модели. № 20. С. 54—73.
- Кочуров Б.И., Лобковский В.А., Смирнов А.Я. Эффективность и культура природопользования. М.: РУСАЙНС, 2018. 162 с.
- Кученкова А.В. (2016). Социальное самочувствие и субъективное благополучие: соотношение понятий и способов измерения // Вестник РГГУ. Серия: Философия. Социология. Искусствоведение. № 2 (4). С. 118-127.
- Лапин Н.И., Беляева Л.А. (2010). Программа и типовой инструментарий «Социокультурный портрет региона России» (Модификация-2010). М.: МФРАН. URL: https://iphras.ru/uplffle/scult/titul.pdf (дата обращения 01.02.2022).
- Леонтьев Д.А. (2020). Счастье и субъективное благополучие: к конструированию понятийного поля // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 1. С. 14-37. DOI: 10.14515/monitoring.2020.1.02
- Литвак Б.Г. (2004). Экспертные технологии в управлении. М.: Дело. 400 с.
- Лысухо А.С. (2020). Обзор российских исследований по теме «социальное благополучие»: основные исследования и результаты // ИНАБ. № 1. Субъективное и объективное благополучие в современном российском обществе: результаты эмпирического исследования. С. 7-17. DOI: 10.19181/INAB.2020.1.1
- Малкина М.Ю. (2017). Социальное благополучие регионов Российской Федерации // Экономика региона. Т. 13. Вып. 1. С. 49-62. DOI: 10.17059/2017-1-5
- Морозова ТВ., Белая Р.В., Мурина С.Г. (2013). Оценка качества жизни на основе индикаторов социальноэкономического благополучия населения // Труды Карельского научного центра РАН. № 5. С. 140—145.
- Ромашкина Г.Ф., Крыжановский О.А., Ромашкин Г.С. (2015). Оценка составляющих социального самочувствия населения Арктического региона // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). Т. 6. № 4. С. 58-59. DOI: 10.18184/2079-4665.2015.6.4.58.63
- Саати ТЛ. (2009). Принятие решений при зависимостях и обратных связях: аналитические сети. М.: Либроком. 360 с.
- Татарова Г.Г. (2002). Качественные методы в структуре методологии анализа данных // Социология: методология, методы, математические модели. № 14. С. 33-52.
- Томашевский И.Л. (2014). Оценка погрешности метода анализа иерархий // Экономика и математические методы. № 1. С. 55-60.
- Тутыгин А.Г., Коробов В.Б. (2010). Преимущества и недостатки метода анализа иерархий // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. Серия «Естественные и точные науки». № 122. С. 108-115.
- Тутыгин А.Г., Коробов В.Б., Меньшикова ТВ. (2020). Комбинированный способ расчета весовых коэффициентов в многофакторных экономических моделях // Вестник гражданских инженеров. № 3 (80). С. 221-228. DOI: 10.23968/1999-5571-2020-17-3-221-228
- Черныш М.Ф. (2020). Социальное благополучие и здоровье // ИНАБ. № 1. Субъективное и объективное благополучие в современном российском обществе: результаты эмпирического исследования. С. 54-74. DOI: 10.19181/INAB.2020.1.4
- Altindag D.T, Xu J. (2017)ю Life satisfaction and preferences over economic growth and institutional quality. Journal of Labor Research, 38, 100-121. DOI: 10.1007/s12122-016-9235-2
- Bacchini F., Baldazzi B., Di Biagio L. (2020). The evolution of composite indices of well-being: An application to Italy. Ecological Indicators, 117. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/ S1470160X20305409 (accessed: 1.02.2022). DOI: 10.1016/j.ecolind.2020.106603
- Diener E., Suh E. (1997). Measuring quality of life: Economic, social, and subjective indicators. Social Indicators Research, 40(1-2), 189-216. DOI: 10.1023/a:1006859511756
- Fors F., Kulin J. (2016). bringing affect back in: Measuring and comparing subjective well-being across countries. Social Indicators Research, 127, 323-339. DOI: 10.1007/s11205-015-0947-0
- Gulyas A. (2016). Subjective well-being and work - a brief review on international surveys and results. Intersections East European Journal of Society and Politics, 2(1), 74-97. DOI: 10.17356/ieejsp.v2i1.187
- Michalos A.C., Hatch PM. (2020). Good societies, financial inequality and secrecy, and a good life: From Aristotle to Piketty. Applied Research Quality Life, 15, 1005-1054. DOI: 10.1007/s11482-019-09717-0
- Myers D.G., Diener E. (1995). Who is happy? Psychological Science, 6(1), 10-19. DOI: 10.1111/j.1467-9280.1995. tb00298.x
- Myers D.G. (2000). The funds, friends, and faith of happy people. American Psychologist, 55(1), 56-67. DOI: 10.1037/0003-066X.55.1.56
- Putnam R.D. (1995). Bowling alone: America’s declining social capital. Journal of Democracy, 6(1), 65-78. DOI: 10.1353/jod.1995.0002
- Stiglitz J., Sen A.K., Fitoussi J.-P (2009). The Measurement of Economic Performance and Social Progress Revisited: Reflections and Overview. Available at: https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01069384/document (accessed: 1.02.2022).
- Toscano W.N., Molgaray D. (2019). The research studies on quality of life in South America. Applied Research Quality Life, 14, 573-588. DOI: 10.1007/s11482-018-9605-4