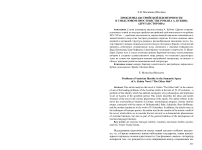Проблемы австрийской идентичности в смысловом пространстве романа А. Кубина "Другая сторона"
Автор: Москвина Екатерина Владимировна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежная литература
Статья в выпуске: 4 (43), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу романа А. Кубина «Другая сторона» в контексте одной из ведущих проблем австрийской действительности на рубеже XIX-XX вв. - проблеме идентичности, определившей появление психоанализа и запечат-ленной в искусстве Австрии указанного периода. В статье описаны связи идейной и мотивной структуры романа с разнообразными явлениями эпохи. Автор отражает в романе социально-политическую ситуацию в Европе, технический прогресс, собственно литературную моду, связанную с именами Гофмансталя, Бара, Шницлера, Беер-Хофмана, и авангардные тенденции в творчестве П. Шеербарта. Кроме того, в статье отмечены приемы барочной поэтики, использованные автором в создании художественного мира романа, что позволяет рассмотреть текст не только как характерное явление австрийской литературы, но вписать в общую традицию развития немецкоязычной литературы.
Модерн, барокко, идентичность, австрийское, нарциссизм, кубин, психоанализ, фрейд, молодая вена
Короткий адрес: https://sciup.org/14914656
IDR: 14914656
Текст научной статьи Проблемы австрийской идентичности в смысловом пространстве романа А. Кубина "Другая сторона"
Исследование идентичности малых наций сегодня особенно актуально, т.к. в Европе появились новые небольшие государства, также находящиеся в процессе поиска идентичности. Сам феномен «малых» литератур интересен тем, что рождается в поле напряжения между сохранением на- циональных приоритетов и стремлением к общеевропейской интеграции. Особое положение австрийской литературы в XX в. дает яркий пример самодостаточности культуры и в то же время неизбежности ее кризиса в силу многовекового германского влияния и единства языка. Творчество Альфреда Кубина в этом контексте можно рассматривать как трагическую проекцию литературных процессов нации, стремящейся сохранить свою австрийскость и осознающей неизбежность ее трансформации.
Роман «Другая сторона» (Die andere Seite) австрийского художника-графика Альфреда Кубина совсем недавно стал предметом интереса в отечественном литературоведении, тогда как К. Рутнер по праву называет его «ключевым текстом немецкоязычной литературы конца века»1. В появившихся работах внимание уделяется жанру, приему гротеска, творческому влиянию произведений Шеербарта2. В крупных работах зарубежных исследователей также в основном внимание сосредоточено на поэтике фантастического романа3. Цель статьи - проанализировать формы проявления кризиса идентичности в романе Кубина с привлечением широкого контекста современной автору австрийской и, шире, немецкоязычной литературы предшествующих эпох, в частности, произведений эпохи барокко. Рассматриваемый роман чрезвычайно эклектичен и не только отражает процессы, характерные для эпохи в целом, но и определяет целый спектр векторов, по которым будет развиваться австрийская культура в 1910-1920-е гг, когда после распада Австро-Венгерской империи кризис идентичности вступит в новую фазу.
Одной из характерных проблем литературы и мироощущения австрийцев на рубеже XIX-XX вв. была проблема идентичности. Ей посвящена монография Ж. ля Ридера, в которой он описал три модели реконструкции идентичности - модели мистика, гения и Нарцисса. Черты указанных моделей находим и в романе Кубина, который начинается как роман-утопия: мюнхенскому художнику (повествователю) Гауч рассказывает об идеальном государстве Траумрайх, которым владеет Патера, школьный приятель героя. В Траумрайх отсутствуют материальные проблемы, и люди в нем стремятся к духовной жизни. Туда приглашают лишь избранных - людей с обостренной чувствительностью, способных жить настроением (Stim-mung), воображением, предаваясь мечте.
Для современников Кубина слово Stimmung (настроение) - маркер импрессионистической школы как в живописи, так и в литературе. Лозунг отказа от телесных нужд ради духовных устремлений у читателя начала XX в., несомненно, ассоциировался с культом индивидуального и субъективного, провозглашенного венской художественной элитой. Кроме того, Гауч рассказывает герою-художнику о том, что в Траумрайх попадают не случайно, и передает приглашение Патеры приехать в Траумланд. Разумеется, в таком контексте возникает идея избранничества, связанная с эстетическим индивидуализмом и культом гения.
Таким образом, Кубин предлагает нам повесть о некоей колонии художников, рассказанную художником. Однако здесь нельзя не остановить-232
ся на специфически австрийском представлении о личности, бытовавшем в эпоху написания романа и непосредственным образом повлиявшем на создание образа героя-повествователя и на специфику нарратива. Речь идет не только о философии Ницше, но также об учении Э. Маха, говорившего, что личное Я - не больше, чем набор более или менее устойчивых сочетаний ощущений. «Смерть бога» и потеря индивидуального бессмертия усугубили кризис идентичности. Эгоцентризм рубежа веков определил, что единственно реальным для человека являлась его самость, а окружающая действительность стремилась стать иллюзией, сном.
Собственно осмыслению самости посвящены многие страницы романа Кубина. Однако, несмотря на то, что личностное Я оказывается в центре интереса автора и он использует прием повествования от первого лица (характерный для литературы модерна), Я нецелостно и мозаично. Кубин передает слово герою-рассказчику, но хотя записки и события разделяет временной промежуток, герой не делает обобщений и выводов, характерных для мемуаристики, автор имитирует стиль дневниковых записей. Герой, одновременно являющийся участником и повествователем, - это герой барочной литературы, сначала появившийся в испанских пикаресках Алемана и Кеведо, а позднее в романах Я. Гриммельсгаузена, И.М. Мо-шероша, Й. Беера. В барочном романе разные ипостаси героя соотносились с разными ракурсами взгляда на действительность: миру как сумме познаваемых и непознаваемых элементов соответствовал герой-участник действия, а миру как смысловому объему - герой-повествователь. Кубин, опираясь на традицию, трансформирует ее и почти не различает героя-повествователя и участника, чем выражает свое сомнение в познавательной деятельности человека, в его способности осмыслить мир и выявить внутренние связи, а также в рациональном устройстве самой реальности. Такой взгляд на действительность делает ее похожей на сон.
Помимо того, в барочном романе герой создавался путем сложения масок, а их смена отражала непостоянство мира и человека. Чередование масок в XVIII в. современная психология прочитала бы как проявление кризиса идентичности, а значит данный прием вполне соотносим с идеей распада Я на рубеже XIX-XX вв. Например, Симплициссимус Я. Гриммельсгаузена имеет маски солдата, актера, разбойника, отшельника, проповедника, пастуха, лекаря, в которых выступает то хитрецом, то глупцом. А Филандер из «Видений» Й.М. Мошероша характеризует себя так: «Я, правда, и сам не знаю, что я такое вообще: я - то, чего хотят»4.
В романе Кубина мотив смены масок связан с образом Патеры, персонажем, символизирующим и отца как отца государства (Франца Иосифа), и отца как Бога - в начале романа Гауч называет Патеру мастером и господином (Meister, Herr) Траумрайх. Маска Бога-отца предполагает также присутствие атрибутов монотеистической религии. Пародийный образ «великих чар часов» («den grossen Uhrbann») отсылает к знакомым таинствам христианства: церковь заменена башенными часами, а поклоняются в ней текущему времени (льющаяся по стене вода), в благоговении произ- нося фразу-молитву: «Господи, я стою здесь перед тобой». Однако описание этого ритуала Кубин кодирует дополнительно и представляет в форме письма. У героя меняется адресат, а значит и стилистика нарратива: рассказчик смотрит на Траумрайх со стороны, глазами корреспондента, как бы из привычной реальности, а не из сновидческого пространства страны грез. Кроме того, ярко выраженная ирония фрагмента напоминает стилистику переписки Кубина с Фрицем Херцмановски-Орландо, на что также указывает совпадение имен (друга героя романа тоже зовут Фриц). Такая двойная условность позволяет увидеть ключ к данной пародии - описание туалета, на что указал К. Рутнер5. Таким образом, чары часов являются и знаком сакрального, и знаком профанного одновременно. В европейской ситуации «смерти Бога» подобный симулякр естественен.
Наряду с описанной маской в арсенале создателя Траумрайх есть и маска старьевщика: Перле создается Патерой и описывается автором как антикварная лавка. М. Ямпольский писал, что во французской литературе XIX в. образ старьевщика постепенно менялся, и маргинал уступил место поэту-визионеру6. Однако и австрийская литература на рубеже веков осознает художника именно в этом экзотическом пространстве. Гофмансталь так описывал сознание современников: «Существует несчетное количество вещей, которые для нас - лишь триумфальные шествия и пастушеские красоты, реинкарнированные в красоте сна, преображенные тоской и расстоянием, - вещей, к которым мы прибегаем, когда наши мысли совершенно бессильны найти красоту в жизни и устремляются на поиски искусственной красоты снов. Тогда лавка антиквара для нас - настоящий остров Кифера»7. В приведенном размышлении Гофмансталя образ лавки старьевщика, несомненно, имеет положительный коннотат, контекстуально связанный с безусловным культом творческой личности. Описанная выше параллель между топосом антикварной лавки и сновидческим состоянием творца в романе Кубина является ключевой. Однако автор ведет к ней читателя сложным путем смысловых метаморфоз. Как писал Ямпольский, в мире театрализованных призраков (именно им, по сути, является антикварная лавка) старьевщик становится ирреальной, аллегорической фигурой, олицетворяющей Смерть, милосердную смерть8. Собственно, милосердную смерть принес Патера жене героя и пояснил свой поступок в ответ на его упрек в бездействии: «Я помог, я и тебе помогу»9.
Эпизод, в котором концентрируется и образно воплощается идея распавшегося Я, - эпизод первой встречи героя с Патерой: «Глаза снова закрылись, и ужасная, страшная жизнь появилась в этом лице. Оно менялось, как у хамелеона, непрерывно играя тысячью, нет, сотней тысяч выражений. Молниеносно и последовательно это лицо походило на лицо юноши, женщины, ребенка, старика. <...> Казалось, передо мной необъяснимая тайна природы, и я не мог от нее отвернуться: магическая сила держала меня, будто привинтив к полу, меня охватил ужас»10 (выделено мной. -Е.М.у
Процитированный отрывок - ключ к пониманию модели мира, вы- строенной автором на зыбком фундаменте распадающегося Я и опирающейся на барочный принцип подобия. Если до описанного эпизода Ку-бин тщательно создавал сновидческую реальность героя-рассказчика, то после него повествователь и другие герои романа (жители Перле) переосмыслены как марионетки сна Патеры, образы его бессознательного, а Траумрайх - как созданная им, подобно Богу, Вселенная. В конце романа обозначенная модель снова усложняется, т.к. автор вводит еще один, иерархически более высокий, элемент системы - мир синеглазых (местных жителей гор Тянь-Шаня, где Патера и создал Траумрайх). В романе синеглазые, воплощая Восток, явно противопоставлены государству грез как модели Запада. Однако в конце романа подвергается сомнению потенциально положительная роль Востока как альтернативного пути развития для Европы. В финале игровое подобие выглядит следующим образом: реальность романа - это воображаемый мир героя, реальность героя и сам герой - это образы сна Патеры, реальность сна Патеры - это образы, созданные синеглазыми. Однако в описанном моделировании художественного мира можно усмотреть не только барочное влияние, но и влияние Ницше: «Итак, если мы отвлечемся на мгновенье от нашей собственной “реальности”, примем наше эмпирическое существование, как и бытие мира вообще, за возникающее в каждый момент представление Первоединого, то сновидение получит для нас теперь значение иллюзии в иллюзии и тем самым еще более высокого удовлетворения исконной жажды иллюзии»11. Ницше описывает произведение искусства в аполлонийской парадигме как «иллюзию иллюзии», и, возможно, кубиновская история о другой стороне вполне могла быть навеяна работами философа, которого он читал в 1900-е гг, о чем свидетельствуют его ранние заметки и портреты Ницше на полях рукописей12.
Необходимо также отметить параллели с современной Кубину литературой, т.к. мотив игры масками, а также апокалиптический сюжет романа можно осознать как проявление своего рода «австрийской ненависти к себе» (по аналогии с «венской ненавистью к себе», der Wiener Selbsthafi, описанной Г. Баром)13 и самым непосредственным образом связанной с кризисом идентичности. Представленное в данном эпизоде «неспасенное Я» (Э. Мах), распавшееся на целый ряд масок, Фрейд несколько позднее осмыслит как естественный психический процесс: Я всегда будет раскалываться многочисленными объектными идентификациями человека, между которыми будут возникать конфликты14. Автор еще до психологов (работа Фрейда «Я и Оно» написана в 1923 г.) находит образное выражение проблематике эпохи, но одновременно с этим и усложняет смысловую конструкцию романа. Интересен пассаж Г. Бара из «Русского путешествия» (1891), где он рассматривал перемещение в пространстве как шанс преумножения Я; «Умножаешься. Больше наслаждаешься, так как получаешь больше инструментов для этого. Больше не одинок, потому что в тебе самом - множество удивительных гостей. Нет ничего проще, как носить в себе множество и иметь возможность надевать новое “я”, как но- вый галстук, семь дней в неделю»15. На мотив игры масками в австрийской литературе рубежа веков не раз указывали исследователи, говоря о творчестве Бара, Шинцлера, Беер-Хофмана, Гофмансталя16. Мотив игры, перенесенный в область архитектуры, преломляется в теории друга Кубина П. Шеербарта, описанной, например, в первых главах романа «Мюнхгаузен и Кларисса». Его герой, говоря о новой архитектуре (Bewegungskunst), выделяет ее главную черту - движение, постоянная трансформация форм, похожая на калейдоскоп17.
Уже было сказано, что поиск идентичности привел представителей австрийской культуры и героев литературы данного периода к уходу во внутренний мир и осмыслению действительности как реальности сна или мечты, на которую распространялись не объективные законы природы, но субъективный волюнтаризм гения. Собственно, в названии Траумрайх актуализирован возврат к барочной модели жизнь-сон. Свою аполитичность и неудовлетворенность реальностью австрийцы компенсировали в эстетической сфере: эстетизм мыслился как художественное оправдание жизни18, эквивалентом которой было бегство в мир снов19. «Жизнь спасается бегством, вытесняемая настроением, безумием, мечтой, и забывается. В этом смысл декаданса», - писал Г. Бар20. Другой исток влияния - философия Э. Маха. Как пишет УМ. Джонстон, «отказав человеку в способности различать реальность и видимость, Мах фактически погрузил его в мир призраков»21. Кубин писал: «Жизнь - это сон! Ничего более подходящего, чем это старое сравнение, не нахожу!.. Одним из самых сильных соблазнов для меня было наполнить все мои пробудившиеся чувства и отдельные ощущения элементами снов»22.
Если выведенную модель действительности включить в широкий контекст, то такой перевертыш есть, например, в новелле Шницлера «Дневник Редегонды» (1909), в романе Беер-Хофмана «Смерть Георга» (1897) или в стихотворениях Гофмансталя «Терцины о бренности земного бытия», «Для меня»:
Я говорю сну: «Останься, будь правдой!» А реальности: «Уйди, будь сном!»23
Создавая «сновидческую реальность», Кубин использует самые разные приемы. Прежде всего, композиция представляет собой череду отдельных эпизодов. А.Н. Беларев полагает, что на принцип ассоциативного, «сновидческого» монтажа у Кубина оказало влияние так называемое Kompositionskunst (искусство композиции), описанное в романе Шеербарта «Мюнхгаузен и Кларисса»: «Основной принцип этого искусства - монтаж образов и элементов, частей, осколков “земных” предметов и тел»24. Также можно провести параллель с известным пассажем из «Письма лорда Чэндоса Фрэнсису Бэкону» (1902) Гофмансталя: «Мой случай вкратце таков: я полностью лишился способности связно мыслить или говорить... Все для меня распалось на части, которые в свою очередь распались на части, и не осталось ничего, что можно было бы охватить каким-либо одним понятием»25. Так на новом витке литература авангарда возвращается к принципу фрагментарности, лежащему в основе мироощущения романтиков, с той лишь разницей, что Новалис и Ф. Шлегель за мозаичной картиной надеялись увидеть гармонию мироздания, а модернисты в ситуации девальвации ценностей закладывают основы для будущего деконструк-тивного письма.
Однако фрагментарные части в романе Кубина объединяются благодаря единому вектору (превращение мечты-сна в удушливый кошмар, Traum в Alptraum) и постепенному нарастанию плотности гротескных образов и ситуаций. В этом контексте столица Перле не просто «жемчужина», но жемчужина неправильной формы. Перле представляется теперь кунсткамерой, ведь редкости и уродцы, кабинеты диковинок - модные явления эпохи барокко. Апокалиптический сценарий жизни Траумрайх отражает идею Кубина о механизмах заката Западного мира, которые он черпает из мифологий, философских сочинений Ницше и психоанализа, а в некоторых образах даже предвосхищает позднейшие теоретические выводы Фрейда.
Остановимся на некоторых эпизодах для демонстрации указанных связей. Границей резкой смены тональности повествования с доминантой на негативных характеристиках Траумрайх является эпизод в молочной. Герой попадает туда с единственной целью - убедиться в том, что страхи жены не обоснованы. Однако замкнутое и ограниченное пространство молочной трансформируется в сеть путаных коридоров, откуда герою не удается выбраться. (Подобная ситуация с рассказчиком повторится, и роль лабиринта будут исполнять узкие улицы во Французском квартале.) Как писал Ж.Ф. Лиотар, лабиринт «мгновенно возникает в том месте и в тот момент (на какой карте, по какому календарю?), где проявляется страх»26. Действительно рассказчик переживает здесь ужас, встретив мечущуюся по лабиринту слепую белую лошадь. Образ лабиринта в культуре всегда связан с инициацией, сложным движением к самому себе27, поэтому образ белой лошади можно трактовать как проекцию главного героя. Кроме того, Шницлер в ряде новелл, Беер-Хофман в романе «Смерть Георга», позднее Л. Перуц в романе «Между девятью и девятью» (1918) нацелены на создание нового типа лабиринта - лабиринта сознания субъекта, включающего в сферу своего влияния объекты, не заботясь об их «собственной жизни»28.
Эпизод у Кубина заканчивается тем, что герой вдруг снова оказывается в привычном пространстве знакомого кафе, будто пробуждается от кошмарного сна. Фрейд в 1923 г, описывая категорию бессознательного, использовал образ лошади, управляемой всадником29. В таком контексте у романного образа появляется еще одно значение (лошадь как символ высвободившегося бессознательного), и последующие события подкрепляют его. Сфера бессознательного, по теории Фрейда связанная с сексуальностью, подавляемой Я или Сверх-Я, находит проявление в дальнейшем развитии сюжета: герой сразу после смерти жены, отдавшись чувственности, оказался в постели Мелитты Лампенбоген. Будто в увеличительном кривом зеркале эта раскрепощенная сексуальность отразится в резком падении нравов в Перле, а безумный бег одной слепой лошади - в бешенстве целого табуна, как по лабиринту носящегося по узким улицам города.
Смерть жены и ночь с Мелиттой - события, решительно меняющие героя. После них ему открывается все величие Патеры и сновидческий характер Траумрайх: «Мир - это воображение, а воображение - сила. <.. .> Патера был везде, я видел его в глазах друзей и врагов, в животных, растениях и камнях. Во всем, что здесь было, его воображение пульсировало сердцебиением государства грез»30.
Как часть сновидческого пространства в романе появляются двойники, подменяющие других персонажей (механизмы сновидения, гораздо позднее описанные психоанализом): фонарщик, похожий на Патеру, нищенка во Французском квартале, как две капли воды похожая на Мелитту Лампенбоген, целые толпы двойников у самых разных жителей Перле, в том числе и копия покойной жены героя.
Наконец, кризис мужской идентичности воплощен в романе в ряде эпизодов, где женщины, в частности, Мелитта Лампенбоген, приобретают черты архаичных богинь, хранительниц материнского права, притягивающих мужчину, но являющихся угрозой его маскулинности (частотный мотив как живописи, так и литературы декаданса)31. Рассказчик пишет: «К ужасу своему я обнаружил, что желтоволосая проститутка зубами оскопила пьяного»32.
Таким образом, кризис идентичности, характерный для австрийской литературы рубежа веков, в романе Кубина связан не только с личностным и гендерным кризисом, но и с существованием государства, которое мыслится как модель европейской культуры. Регрессивное движение цивилизации и распад Траумрайх обусловлены в романе распадом Я, невозможностью определить собственную самость. Однако, как показала история Австрии, национальная идентичность формировалась именно в рамках модели «конца света», который в итоге для Австрии никогда не наступал, и конец для нее всегда - символ начала. Альфред Кубин был одним из первых авторов, представивших данную модель в художественном тексте.
Список литературы Проблемы австрийской идентичности в смысловом пространстве романа А. Кубина "Другая сторона"
- Ruthner C. Traumreich. Die fantastische Allegorie der Habsburger Monarchie in Alfred Kubins Roman „Die andere Seite" (1908/09)//Leitha und Lethe. Symbolische Räume und Zeiten in der Kultur Österreich-Ungarns. Tübingen, 2004. S. 179-180.
- Жукова M.B. Царство грез рождает чудовищ. Эсхатология утопии в романе А. Кубина «Другая сторона»//Вопросы филологии. Вып. 11. СПб., 2005. С. 77-84;
- Жукова M.B. «Ускользающие двойники»: о «модернизации» романтического мотива в романе А. Кубина «Другая сторона»//Диалектика модернизма. СПб., 2006. С. 112-122;
- Чехлова Л.А. Страна грез как карикатура действительности в романе Альфреда Кубина «Другая сторона»//Диалог культур -культура диалога. Кострома; Дармштадт; Минск; Могилев; Познань; Ванадзор, 2011. С. 399-404;
- Чехлова Л.А. А. Кубин: взаимодействие литературы и живописи//Язык и литература в социокультурном контексте. Чебоксары, 2012. С. 165-168;
- Беларев А.Н. Чернильница вместо плана. Город и память в романе Кубина «Другая сторона»//Анциферовский сборник -2016. М., 2016. С. 29-60;
- Мичковский О. Из жизни Кубина, рисовальщика и литератора//Кубин А. Другая сторона. М.; Екатеринбург, 2013. С. 282-295.
- Geyer A. Träumer auf Lebenszeit. Alfred Kubin als Literat. Wien, 1995;
- Hewig A. Phantastische Wirklichkeit. Interpretationsstudie zu A. Kubins Roman „Die andere Seite". München, 1967;
- Cersowsky P. Phantastische Literatur im ersten Viertel des 20. Jahrhundert. Kafka. Kubin. Meyrink. München, 1983.
- Ruthner C. Traumreich. Die fantastische Allegorie der Habsburger Monarchie in A. Kubins Roman "Die andere Seite" (1908/09)//Leitha und Lethe. Symbolische Räume und Zeiten in der Kultur Österreich-Ungarns. Tübingen, 2004. S. 190.
- Ямпольский М. Наблюдатель. Очерки истории видения. М., 2000. С. 30-31.
- Hofmannsthal H. Gesammelte Werke in 10 Einzelbänden. Frankfurt a. M., 1980. Bd. 1. S. 175.
- Kubin A. Die andere Seite. München; Leipzig, 1990. S. 243.
- Мичковский О. Из жизни Кубина, рисовальщика и литератора//Кубин А. Другая сторона. М.; Екатеринбург, 2013. С. 288.
- Bahr H. Kritische Schriften in Einzelausgaben. Bd. 21. Weimar, 2012. S. 2.
- Андреев Л. Импрессионизм. М., 2005; Васильев Г. «Смерть Георга» Рихарда Бер-Гофмана//Бер-Гофман Р. Смерть Георга. Нижний Новгород, 2002;
- Жеребин А.И. Абсолютная реальность. Молодая Вена и русская литература. М., 2009;
- Лукач Д. Мгновение и формы: Рихард Беер-Гофман//Лукач Д. Душа и формы. М., 2006. С. 165-182.
- Scheerbart P. Münchhausen und Klarissa. Berlin, 1906. S. 22-23.
- Sprengel P. Geschichte der deutschen Literatur Bd. 9/1: Geschichte der deutsch-sprachigen Literatur 1870-1900. München, 1998. S. 117-118.
- Жеребин А.И. Утопия австрийского модерна//Вестник Европы. 2014. № 38-39. С. 303.
- Bahr H. Decadance//Wiener Moderne. Literatur, Kunst und Musik zwischen 1890 und 1910. Stuttgart, 1990. S. 234.
- Джонстон У.М. Австрийский Ренессанс: интеллектуальная и социальная история Австро-Венгрии 1848-1938. М., 2004. С. 275.
- Kubin A. Über mein Traumerleben//Kubin A. Aus Meiner Werkstatt. München, 1973. S. 7.
- Hofmannsthal H. Gesammelte Werke in zehn Einzelbänden. Band 1. Gedichte, Dramen, Frankfurt a.M., 1979. S. 90-91.
- Беларев А.Н. Чернильница вместо плана. Город и память в романе Кубина «Другая сторона»//Анциферовский сборник -2016. М., 2016. С. 40.
- Гофмансталь Г. Избранное. М., 1995. С. 522.
- Элиаде М. Мифы. Сновидения. Мистерии. М., 1996. С. 275.
- Scheibe H. Nachwort Beer-Hofmann R. Der Tod Georgs. Stuttgart, 2009. S. 122.
- Ле Ридер Ж. Венский модерн и кризис идентичности. СПб., 2004;
- Treut M. Die grausame Frau. Zum Frauenbild bei de Sade und Sacher-Masoch. Basel, 1990;
- Geyer A. Träumer auf Lebenszeit. Alfred Kubin als Literat. Wien, 1995.