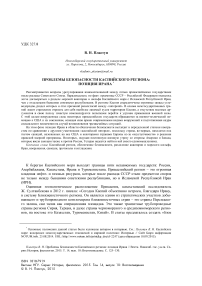Проблемы безопасности Каспийского региона: позиция Ирана
Автор: Пластун Владимир Никитович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 10 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются вопросы урегулирования взаимоотношений между пятью прикаспийскими государствами после распада Советского Союза. Парадоксально, но факт: преемнице СССР - Российской Федерации оказалось легче договориться о разделе морской акватории и шельфа Каспийского моря с Исламской Республикой Иран, чем с отдельными бывшими союзными республиками. В регионе Каспия сосредоточены огромные запасы углеводородов, раздел которых и стал причиной разногласий между «пятеркой». В основе межгосударственных трений лежит стремление отрезать для себя наиболее лакомый кусок территории Каспия, а отсутствие весомых аргументов в свою пользу зачастую компенсируется попытками перейти к угрозам применения военной силы. С этой целью вооруженные силы некоторых прикаспийских государств обращаются за военно-технической помощью к США и их союзникам, оснащая свои армии современными видами вооружений и подготавливая кадры специального назначения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. На этом фоне позиция Ирана в области обеспечения безопасности выглядит в определенной степени контрастом по сравнению с другими участниками «каспийской пятерки», поскольку страна, во-первых, находится под гнетом санкций, наложенных на нее США и некоторыми странами Европы из-за «неуступчивости» в решении иранской ядерной программы. Во-вторых, ощущая постоянную военную угрозу со стороны Америки и Запада, которые ввели санкции также и против России, Тегеран надеется найти в ней своего единомышленника.
Каспийский регион, обеспечение безопасности, разделение акватории и морского шельфа, иран, вооружения, санкции, протоколы и соглашения
Короткий адрес: https://sciup.org/147219238
IDR: 147219238 | УДК: 327.8
Текст научной статьи Проблемы безопасности Каспийского региона: позиция Ирана
К берегам Каспийского моря выходят границы пяти независимых государств: России, Азербайджана, Казахстана, Ирана и Туркменистана. Прикаспийский регион – это огромная кладовая нефте- и газовых ресурсов, которые после распада СССР стали предметом споров не только между бывшими советскими республиками, но и Исламской Республикой Иран (ИРИ).
Оценивая геополитическое расположение Прикаспия, казахстанский исследователь Ж. Султанбекова в 2012 г. писала: «Сегодня Каспий объективно встроен, благодаря Ирану, в систему Ближневосточного региона. Он является одним из стратегических участков добывающего и трубопроводного конгломерата ближневосточных стран – это страны Персидского залива, сам залив как операционная площадка. Это также транзитные трубопроводные страны региона Сирия, Турция, и далее страны черноморского и средиземноморского регионов, на востоке это Казахстан, Туркменистан, Китай». В статье предлагалось создать «блок
Основные положения данной статьи были изложены автором в интервью. См.: Пластун В. Н. Каспийское море: водораздел межгосударственных отношений и мировой политики: Интервью // Сайт Бюро информации NOTUM.info. 25.08.2014. URL: (дата обращения 10.09.2015).
Пластун В. Н. Проблемы безопасности Каспийского региона: позиция Ирана // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 10: Востоковедение. С. 125–130.
ISSN 1818-7919
Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 10: Востоковедение © В. Н. Пластун, 2015
прикаспийских стран, как уже проявленного международного геополитического и экономического плацдарма в совершенно конкретной форме» и приступить к строительству «системы сдержек и противовесов в Каспийском море… на экономической, экологической и военно-политической основе» 1. В настоящее время можно с уверенностью констатировать, что Москва считается с интересами всех прикаспийских государств. Но, с другой стороны, если между Россией и Ираном сохраняются и укрепляются взаимовыгодные политические и экономические отношения, то между членами остальной четверки временами возникают трения в области «дележа» природных ресурсов Каспия.
В историческом плане в отношениях между СССР и Ираном (впоследствии – между РФ и ИРИ) на правительственном уровне взлеты и падения во все периоды совпадали (как, впрочем, и в других государствах) с приходом к власти новых режимов и лидеров. В зависимости от их ориентации на внешних игроков и воздействия внешних сил менялись и приоритеты. Хотя в принципе обе стороны стремились наладить взаимовыгодное сотрудничество, Ирану, географически являющемуся перекрестком путей между Востоком и Западом, приходилось проявлять большую изобретательность и гибкость. Тегеран стремился, с одной стороны, сохранить статус независимого государства, а с другой – был просто не в силах противостоять жесткому давлению Запада. До 1953 г. иранской нефтью владела Великобритания в лице Англо-Иранской нефтяной компании (АИНК). После свержения (при прямом, но негласном вмешательстве США) национального правительства Ирана во главе с премьер-министром М. Моссадыком, объявившем о национализации АИНК, Вашингтон прочно обосновался в регионе, обласкав шаха Мохаммада Реза Пехлеви и завалив Иран американским оружием. Присутствие США – главного противника в холодной войне – на границах СССР не могло не вызывать перманентных охлаждений в отношениях между Советским Союзом и Ираном.
Не сразу возникло взаимопонимание и после свержения монархии и становления теократического режима в Иране в 1979 г. Руководству СССР было сложно понять смысл лозунга «Ни Западу, ни Востоку», выдвинутого лидером исламской революции имамом Р. Хомейни. Обращаясь 1 января 1989 г. к первому и последнему Президенту СССР М. С. Горбачеву, он предупреждал, «чтобы в разрушении мнимых преград марксизма Вы не оказались в плену Запада и Большого дьявола» [Хомейни, 1999. Прил. С. 5].
Дальнейшее развитие событий в России и на международной арене показало, что Российская Федерация и Исламская Республика Иран все-таки смогли найти приемлемый путь взаимного сближения политических и экономических интересов. Хотя, думаю, предстоит пройти еще немалый путь и преодолеть кое-какие препятствия. В частности, необходимо урегулировать разногласия по проблеме Каспия, которая возникла после распада Советского Союза и появления на берегах Каспия новых независимых государств. Если ранее вопросы использования Каспийского региона решались между Москвой и Тегераном, то теперь необходимо решать проблемы разграничения между пятью претендентами (подробнее см.: [Кулагина, Дунаева, 1998. С. 60–96]).
В частности, до сих пор не определен природный статус Каспия: то ли море, то ли озеро. В зависимости от этого определения можно по-разному толковать положения международного права 2. Например, представители Республики Азербайджан в 1991 г. предлагали считать Каспий «пограничным озером» и разделить его по срединной линии. Участники переговоров от Республики Казахстан называли его «замкнутым морем», которое надо делить по соответствующим нормам Конвенции ООН. Россия предлагала руководствоваться правовым режимом, установленным еще советско-иранскими договорами. На это соглашался Иран, но протестовали Азербайджан, Туркмения и Казахстан. Иран предложил разделить Каспий на пять 20-процентных частей, но при этом доля иранской стороны увеличивалась почти в два раза по сравнению с прежней, что, естественно, не устроило другие стороны.
Уверен, все заинтересованные стороны понимают, что предмет спора заключается не в определении «море-озеро», а в наличии на его дне огромных запасов углеводородов. В этой сфере значительная напряженность наблюдается между Ираном и Азербайджаном, претендующим на одни и те же нефтеносные зоны. То же самое – между Азербайджаном и Туркменистаном. Таким образом, до заключения Конвенции о правовом статусе Каспия еще довольно далеко, споры продолжаются, хотя определенные подвижки все же достигнуты.
Подписаны соглашение и протокол о разграничении дна на севере Каспия между РФ и Казахстаном (1998 и 2002 г.), между Россией и Азербайджаном (2002 г.). В мае 2003 г. подписано российско-азербайджано-казахстанское соглашение о точке стыка линий разграничения сопредельных участков дна Каспия. Но Иран этих соглашений не признавал.
Повторю: согласование правового статуса Каспия непосредственно связано с добычей нефти и газа, т. е. речь идет о государственных интересах пяти стран. Предстоит напряженная работа по решению проблем совместной борьбы с терроризмом, наркотрафиком, браконьерством.
Определенный прогресс в решении вопроса безопасности в Каспийском регионе все же наметился. В июне 2015 г. меджлис (парламент) ИРИ ратифицировал соглашение о безопасности на Каспии, подписанное еще в ноябре 2010 г. президентами прикаспийских государств Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Согласно документу, обеспечение безопасности на Каспии является прерогативой прикаспийских государств, которые могут сотрудничать в таких областях, как борьба с терроризмом, организованной преступностью, контрабандой, торговлей людьми и незаконной миграцией на правовой основе. Упоминается в нем и взаимодействие в борьбе с незаконным оборотом оружия и военной техники, взрывчатых и отравляющих веществ, с незаконным оборотом наркотиков и с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Обговариваются также вопросы взаимодействия в обеспечении безопасности морского судоходства, мореплавания, в борьбе с пиратством и браконьерством. Документ может послужить хорошей основой для выработки окончательного решения о статусе Каспия. Дело остается за «малым» – четким соблюдением всех его положений всеми участниками.
Помехой в процессе достижения положительных договоренностей может стать оживление деятельности исламистских группировок не только в прикаспийских странах, но и в Центрально-Азиатском регионе в целом. Связано это, по-моему, с признаками нестабильности в самих среднеазиатских государствах, порождаемой в первую очередь реализацией политики США и ЕС в преддверии вывода американских войск и остатков контингента Международных сил содействия безопасности (МССБ) из Афганистана.
Военная операция натовских войск в Афганистане создала реальные предпосылки для переориентации маршрутов транспортировки каспийских углеводородов в обход территорий проблемных стран, Ирана и Сирии, через территорию Турции. На этом фоне войны в Афганистане и Ираке события в Сирии можно рассматривать как звенья одной цепи. А поскольку мероприятия по выводу войск МССБ касаются стран Центральной Азии уже непосредственно, то и ситуация в прикаспийском регионе вполне вписывается в рамки возможной дестабилизации положения и в Центральной Азии (ЦА), и в Афганистане, и на Ближнем Востоке.
Уходя из Афганистана, США планируют (после поэтапной передачи власти в афганских провинциях «умеренным талибам») перенести центр своей активности на стимуляцию «управляемого хаоса» в Центрально-Азиатский регион. Все чаще в СМИ появляется информация о содействии американской агентуры делу создания и укрепления групп боевиков из числа местных исламистов на севере Афганистана и последующей их переброске в Таджикистан и Киргизию.
Главная цель экстремистских группировок – реализация нового вызова, отраженная в исламистском призыве к созданию единого исламского государства (халифата). И если центрально-азиатские государства будут игнорировать угрозы, которые несут эти новые вызовы, то регион обязательно ожидает «арабская весна».
На территории Афганистана обосновались немногочисленные экстремистские религиозно-политические организации, состоящие в основном из представителей среднеазиатских и родственных им в сопредельных странах этносов. К наиболее активными из этих групп эксперты относят: «Исламское движение Узбекистана» (ИДУ), «Акрамийя», «Таблиги Джамаат», «Исламская партия Восточного Туркестана», «Жамаат моджахедов Центральной Азии», «Свободный Таджикистан», «Братья мусульмане», «Хизб ут-Тахрир» и др. Они по- степенно набирают силу, что связано, с одной стороны, с переносом военных действий на север Афганистана; с другой – с ухудшением социально-экономической и политической ситуации в отдельных странах региона. В целом же они способны создать реальную угрозу светским режимам ЦА.
Исламисты не обошли стороной даже такую закрытую страну, как Туркменистан, хотя правительство республики лояльно относилось к режиму талибов. Тем не менее в 2013– 2014 гг. происходили проникновения на территорию Туркменистана боевиков ИДУ. По поступавшей информации, небольшие отряды боевиков захватили несколько сел с пунктами местной самообороны, местные жители были вынуждены бежать из родных мест 3. Перебрасываемые с территории Афганистана отряды исламистских боевиков находят общий язык с участниками местных религиозно-политических движений, и, как полагают эксперты, отдельные вооруженные столкновения способны приобрести характер партизанской войны.
В такой ситуации пяти прикаспийским странам приходится серьезно задуматься над проблемами безопасности. Они имеют свои военно-морские силы, оснащают их последними образцами оружия, проводят учения, но до сих пор нет юридических документов, регулирующих их деятельность. При этом почти все тесно сотрудничают в военно-технической области со странами, не входящими в прикаспийский регион. Кроме США широкое военное сотрудничество со странами Каспия осуществляют: Израиль, КНР, Северная и Южная Кореи, Турция, ФРГ, Индия, Пакистан, Украина, Польша. А поскольку, как говорилось выше, соглашение о статусе Каспия не выработано, иностранное военное присутствие (хотя бы в качестве советников и инструкторов) может отрицательно сказаться на взаимоотношениях прикаспийских государств.
В связи с этим некоторые эксперты ставят вопрос о «едином пространстве войны» в регионе. Они напоминают, что блок НАТО – это организация с военно-политическими и полицейскими функциями, представляющая совокупную военно-политическую мощь стран Запада, которые не желают допустить усиления государства с богатыми углеводородными запасами, обладающего геополитическим статусом. Предпочитая «не замечать» такие ядер-ные государства, как Израиль и непредсказуемый Пакистан, НАТО в качестве первоочередного объекта принудительной «демократизации» ставит Иран, который является членом Договора о нераспространении ядерного оружия. Думается, что даже если ИРИ полностью откажется от ядерных технологий, это не остановит Запад от планов развязывания «Большой войны».
Правда, нельзя не отметить и сетования иранских политиков на трудности в наших взаимоотношениях. Бывший Посол Ирана в РФ (ныне советник Высшего совета национальной безопасности ИРИ) Махмуд Реза Саджади в недавнем интервью сказал: «У нас общие интересы, общие угрозы (в Афганистане, в Каспийском регионе, в противостоянии терроризму и наркотрафику). В этих областях мы сотрудничаем. Но и в Иране, и в России есть прозападные тенденции, прозападные круги. К примеру, сколько процентов российских либералов проводят каникулы в Иране? В Иране есть очень много достопримечательностей. И наоборот: сколько процентов либерально настроенных иранцев отдыхают в России? И те, и те ориентированы на Запад. Многие там получали образование. Мы должны стараться, чтобы между нашими странами было больше связей на уровне обычных людей» 4.
В настоящее время Иран имеет статус наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и является одним из солидных партнеров КНР в области энергетики. Тегеран неоднократно выражал желание получить статус полноправного участника ШОС, но пока у него на это мало шансов из-за санкций, наложенных на него США и некоторыми их союзниками.
Определенные сложности возникают у ИРИ в отношениях с Азербайджаном, которому НАТО отводит особую роль на Каспии. Член НАТО Турция занимается реформированием вооруженных сил Азербайджана и, соответственно, осуществлением предусмотренных натовцами программ по борьбе с терроризмом, охраной водного и воздушного пространства, в особенности каспийского шельфа. Кроме того, намечается модернизация ряда военных аэродромов и создание военных баз США для размещения сил спецназа. С 2003 г. реализуется программа создания структуры «Каспийская стража», согласно которой в регионе будут формироваться подразделения спецназа и полиции для реагирования на чрезвычайные ситуации 5.
США стремятся втиснуть Центрально-Азиатский регион и Кавказ в свой проект «Большой Ближний Восток». Его реализация даст возможность вычеркнуть Россию из списка весомых геополитических игроков и сформировать стратегический коридор для прямого выхода в ЦА, а поскольку за Каспием закрепляется статус зоны жизненных интересов США, то появление там военных сил НАТО вполне ожидаемо. Очевидность такой угрозы обсуждалась на саммите «каспийской пятерки», состоявшемся 29 сентября 2014 г. в Астрахани. В итоге, его участники единогласно приняли решение о недопустимости присутствия на Каспии воинских контингентов других держав. Им предстоит договориться об установлении контроля над количеством и качеством всех видов вооруженных сил региона, а также о разработке совместных мер по предотвращению возможных действий транснациональных террористических организаций.
Главы государств «каспийской пятерки» должны признать, что ситуация на их территориях не отличается стабильностью. От их сплоченности в вопросах безопасности зависит «геополитическая архитектура всего Каспийского и прилегающих к нему регионов. Это, в первую очередь, Южный Кавказ, Центральная Азия и Ближний Восток, где терроризм, экстремизм и сепаратизм превращаются в норму жизни» 6.
Список литературы Проблемы безопасности Каспийского региона: позиция Ирана
- Хомейни, имам. Религиозное и политическое завещание. М.: Палея, 1999. 103 с. (Приложение. 12 с.).
- Кулагина М. Л., Дунаева Е. В. Граница России с Ираном (история формирования). М.: Ин-т востоковедения РАН, 1998. 121 с.